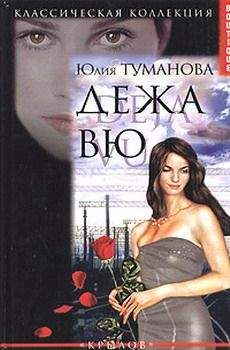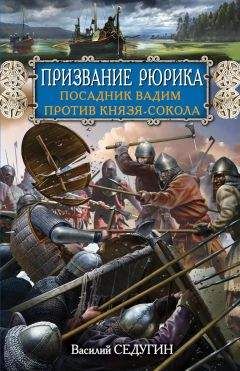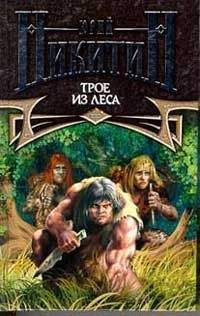Оставшись одна, Тина налила себе еще кофе. То есть, вознамерилась налить, но промахнулась, потопив в нем салфетку. Убирая, кокнула чашку. Пока осколки собирала, порезала палец. И обреченно забилась в угол — без кофе, без чашки, без надежды, — думая, что так больше продолжаться не может.
Надо ему позвонить.
Едва она подумала об этом, все как будто стало на свои места. Ловко утащив из спальни телефонную трубку, Тина рванула в ванную и там, пустив воду на всю мощность, нервными пальцами забряцала по кнопкам.
Первый гудок. Второй. Третий.
На четвертом она мысленно назвала себя идиоткой. Нажала отбой и добавила к идиотке еще несколько определений и качественных прилагательных. Самым безобидным было «охреневшая».
Тонко подмечено. Охреневшая и есть. Гормоны крышу сорвали. Запоздалый кризис полового созревания.
Трубка, которую она, как горло кровного врага, сжимала в кулаке, залилась пронзительным звоном. И Тина мгновенно осознала, что гормоны ни при чем, разве в сердце есть гормоны, разве сердце имеет отношение к сексу, пусть самому потрясающему?!
— Да?!
— Прости, пожалуйста, что звоню, я все понимаю, я не должен, но мне сейчас кто-то позвонил, а там сорвалось, и я подумал, вдруг… это ты. Это ты?
— Это я.
Дыханье билось в трубке, как птица в силках. Их общее дыханье.
— Что ты делаешь?
— Сижу на унитазе, — ляпнула она.
— Тина, мне тридцать пять лет, — ляпнул он, — тридцать пять! Я с ума сойду!
— Я тоже.
— Тебе нельзя. У тебя дети.
— Да. У меня дети. Когда ты уезжаешь?
— Я же говорил. У меня обратный билет на понедельник.
— На какой понедельник?
— Я же говорил. На следующий.
Да, он говорил! Да, да, да, черт побери! Это всего-навсего глупая надежда, что она ослышалась!
— Тина, ты долго еще будешь сидеть… на этом своем унитазе?
— А что?
— Ну его к черту. Выходи! Выходи, я встречу тебя.
— Хорошо. То есть, плохо. Я не могу. Мне надо на работу.
— Я провожу тебя до работы.
— А твоя презентация?
— Она вечером. В восемь я освобожусь. Нет, в семь. Выходи, Тина, я еду.
— Адрес… — совсем без сил прошептала она, — запиши адрес.
— Я знаю.
Как нелепо! Она увидела со стороны и поняла — нелепо. Ей тоже не восемнадцать. Если на то пошло, ей даже не двадцать пять!
А она сидит на унитазе, прижав к груди телефонную трубку…
Да что же она сидит?! Он же едет к ней!
Она повторила в который раз:
— Все, Морозов, хватит. Я пошла.
— Иди.
— Отпусти меня.
— Пожалуйста.
— Спасибо.
Это невозможное что-то! Что-то, чему ни названия, ни объяснения нет. Что-то, слишком похожее на безумие. Из которого не хочется возвращаться.
— Значит, в «России». В шесть.
Его руки снова вернулись к ней. Будто он был над ними не властен.
— А презентация? Ты же говорил, в семь?
Ее руки опять взметнулись навстречу. Дурацкое пальто! Как в нем неудобно!
— В шесть. — Его жар все ближе, ближе. — Тинка, ты так и не носишь лифчики?
— Морозов, перестань!
— В пять!
— Ты — сумасшедший!
— Скажи еще!
— Сумасшедший, сумасшедший, сумасшедший…
День показался ей бесконечностью, и она успела возненавидеть работу — прежде любимую, тысячу раз наорать на сотрудников — без повода, чего прежде не позволяла себе никогда. И снова разливала кофе, и разбивала чашки, и, нервными пальцами схватившись за трубку, цепенела и глохла, когда оттуда доносились чужие голоса. Десятки разных голосов. Ненужных, неважных, скучных.
— Тина, вы просили напомнить о «Мае»…
— А что такое у нас в мае?
На самом деле ей по фигу, как говорит Сашка, и по барабану, как говорит Ксюшка, — в общем и целом, ей наплевать, что будет в мае, а также в апреле и даже в марте. Потому что еще не кончился февраль. Вот он, в окне — слякотный, московский февраль, который видел их поцелуи. А через три часа — нет, уже через два часа и пятьдесят шесть минут — увидит опять.
И она увидит его. И он увидит ее. И надо только подождать еще чуть-чуть. Два часа пятьдесят шесть минут. Пятьдесят пять… пятьдесят четыре…
— Тина?
— Да?
— Вы же так и не встретились с Вадимом Алексеевичем? Мне позвонить ему?
А кто это, едва не вырвалось у Тины.
Господи ты боже мой, она даже не пыталась взять себя в руки. А ведь она сильная, она смогла бы. Хоть немного притвориться, что ее интересует Старцев, а также Иванов, Петров и Сидоров — или как там именуются остальные клиенты «Промо-ленд».
Раз в жизни она хотела забыть о своей силе. И хотела, черт подери, быть слабой, и не сопротивляться лихорадке, что сжирала изнутри, а снаружи пламенела маками на щеках и сверкала ошалелыми зрачками.
— Позвони, — все же очнулась Тина, — обязательно позвони.
— Когда вам удобней с ним встретиться?
Да никогда! Ей намного удобней вообще ни с кем не встречаться, а сейчас же, немедленно, припустить что есть сил до «Фристайла», где проходит эта чертова презентация.
— Тина?
Да тридцать два года она Тина! Что с того?! Ах, нет, не тридцать два — какое-то время она была Алькой. Как же это выпало из головы? На каком ухабе?
Алька… Алька… Она бы не позволила так обойтись с собой. Она бы защищалась до последнего, помня о его предательстве.
А Тина? Забыла?
Забыла вместе со всем остальным.
— Тина?
— Ну что? Что?
Леночка попятилась.
Ой, беда. Кажется, в этой Сибири, где так и не найден был Вадим Старцев, начальница напрочь застудила мозги. Сегодня только и разговоров, что о ее внезапном умопомешательстве, болезненно-алых щеках, одурманенном взгляде — уж не начала ли наркотиками баловаться?! — и беспричинных приступах гнева.
Натурально, беда.
И только когда Тина, обычно коротающая в офисе чуть ли не полночи, еще засветло выскочила из кабинета в развевающемся пальто и, покрутившись перед зеркалом, испарилась, Леночка охнула от догадки. Никакого умопомешательства! Никаких наркотиков! Начальница — железная леди, конь в юбке, бесстрастная, безгрешная, как может быть безгрешен только робот, — она влюбилась. Как самая обыкновенная баба!
Влюбилась! Эта мысль могла прийти только в хорошенькую, двадцатилетнюю, восторженно-циничную головку Лены.
Тина одним словом — к тому же таким вот немудреным и наивным — свое состояние оценить не могла. Для нее все было гораздо проще. Или сложней? В моменты просветления — или все-таки помутнения, черт его знает! — она говорила себе: «Вот что значит дорвалась! Примерно то же самое, что тринадцать лет без завтраков. Только кофе. И в постели — только кое-что вроде кофе, чтобы совсем уж не на пустой желудок засыпать. И, пожалуйста — дорвалась! И все не было бы так… остро, так… отчаянно, так… упоительно, нет, не было бы, если бы…»