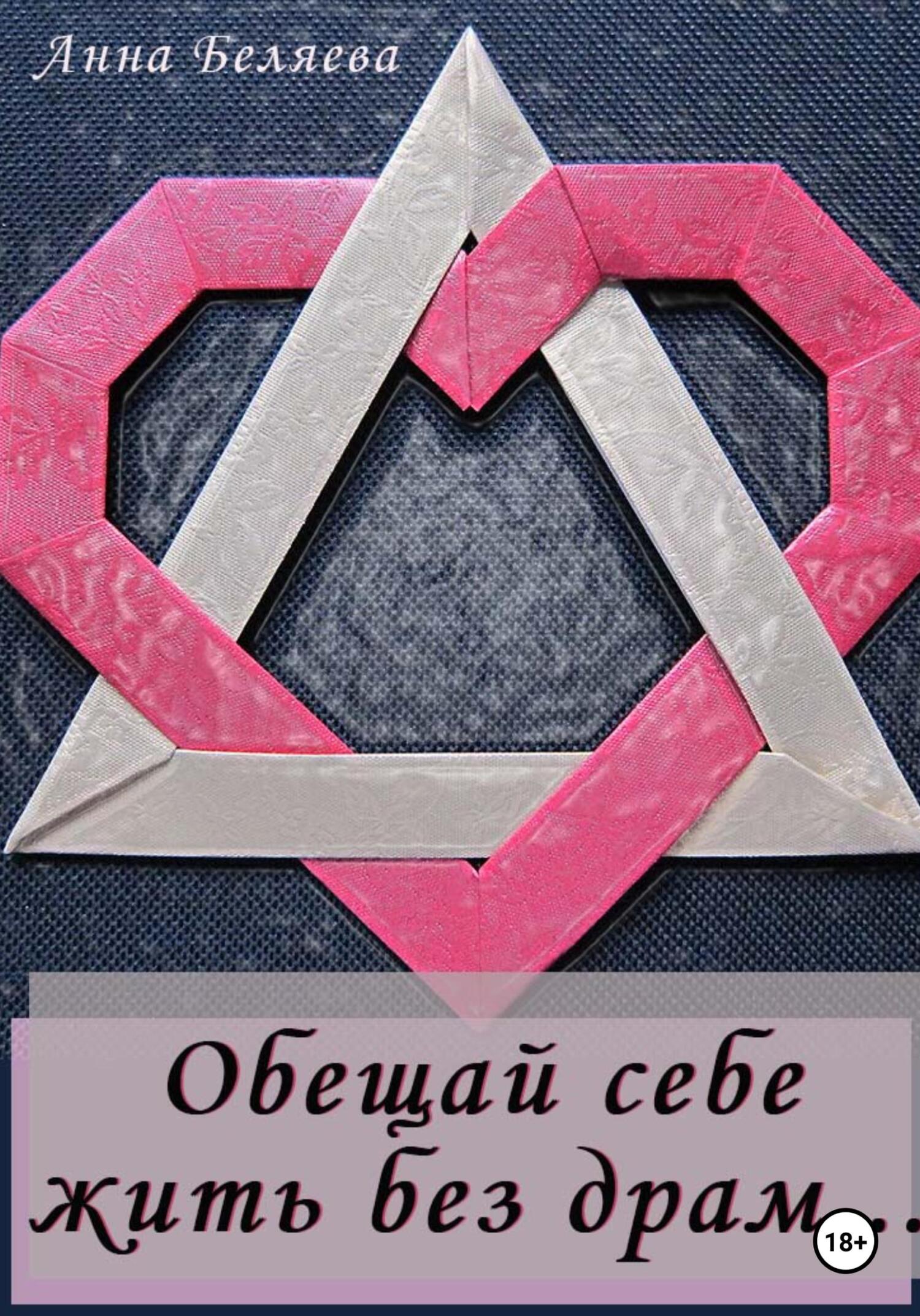и наоборот. Странно, да?..
Он смотрит на меня не мигая, будто наблюдает.
— А потом, когда узнала, что у меня не будет ни мальчика, ни девочки, подумала: «Пусть будет так, как будто бы у меня могли быть оба».
Меня одолевают самые смешанные чувства. Должно быть, я не привыкла еще показывать ему таких чувств, хотя, возможно, сейчас-то и должна была бы показать. Но я не знала.
Вот я и не прячу даже, не драпирую этих чувств — просто не знаю, как их показать.
Вместо этого даю вырваться на волю словам:
— Да, с ними так, с детьми.
И отчего-то тут же чувствую, что лучше бы я этого не говорила.
Он пристально смотрит на меня и произносит:
— В натуре.
И если за моими словами не слышно невысказанного, невысказанное слышно у него:
«Откуда тебе знать? У тебя их никогда не было. И что-то ты не очень рвешься их заводить».
Это, что ли, он подумал? Он тоже молчит. Возможно, наши переглядки длятся секунду, а может, вечность.
Возможно, он хотел сказать вовсе не это. Но если так — откуда тогда эта синхронность мыслей, которая следует теперь? А потому что ведь в моей скудной жизни как? Где не задавшиеся дети, там и… Миха.
— Ты с ним встречалась.
— Что значит — «встречалась»? — раздражаюсь я.
Не будет же он в самом деле теперь опять меня к тому ревновать?
— Мы встретились. Ну, то есть, как встречаются — случайно.
Как странно сейчас все вокруг нас и между нами. Так странно, что ни он, ни я не думаем смеяться над многозначительностью этих слов: «случайная встреча», над их особой значимостью для нас. Нет, сейчас что-то ясно говорит, что это — пройденное и не об этом сейчас речь.
— Да, я знаю. Я вас видел. Тогда.
— Скажи, пожалуйста, откуда ты все это узнаешь?
— А что, не должен был?
— Да нет. Мне скрывать нечего.
— Тогда… зачем… скрыла?.. — произносит он медленно и веско, с паузами между слов.
— А что, за каждый шаг перед тобой отчитываться должна? Слушай, ну тебя ж не это вовсе интересует. Наверно, хочешь знать, о чем мы говорили?
— Да ладно. О чем вы там могли говорить…
Что это с ним? Ведь что-то его гложет. Ему не понравилось, что я разговаривала тогда с Михой?
— Да, об этом говорили.
— Я думал, для тебя все это в прошлом.
— Просто он не знал, как у меня тогда все было. Он не знал и отчасти поэтому и…
— …заехал тебе тогда?
Глаза его сужаются. В это мгновение будто чья-то невидимая рука тянет за шнурок и включает над его головой лампочку. Свет этой лампочки озаряет не только его лицо, но будто и всю его душу, и то, что сейчас творится в его голове, тоже показывает.
Я вспоминаю, в какую ярость его привело рукоприкладство Михи.
«Он ненавидит, когда бьют женщин» — наконец-то прозреваю я. — «Он этого хронически не переносит. Не может терпеть. И ему даже плевать, наверно, что за женщина — своя, чужая. Он пасть готов за это порвать. Что угодно сделать. И он… Тогда он защитил меня, да… Но будь на моем месте какая-нибудь другая женщина, на улице, там, в метро или в том борделе, он…» — думаю с внезапной грустью — «…защитил бы и ее. Да, он не терпит насилия по отношению к женщинам, но отчего мне вдруг от этого так стремно? И мало ли что он когда-то сам про них… про нас, то есть, говорил — сам он никогда и пальцем женщину не тронет, какой бы она ни была — такой, как его бывшая или такой, как… я».
А на лице его теперь еще кое-что.
«Да» — говорит его лицо. «Я — это я, а он — это он. Да, я настоящий мужик, а он настоящий говнюк. И я и пальцем не трону женщину, а он, тварь, тронул. Ту, которую любил когда-то. С которой жил. Которая когда-то носила его ребенка. Которую он трахал. Тебя. И как же ты после всего этого, после того как я разбил ему ебало, могла вообще в его сторону смотреть — не то, что разговаривать с ним?»
Я вижу, он не понимает. Во взгляде его колючее недоверие и даже неприязнь.
— Он должен был знать, — настаиваю я. — Я должна была ему рассказать, как это было у меня.
— Ты ничего ему не должна.
Тут он, кажется, прав — а меня судорогой сводит от недовольного осознания этого.
Он недоволен мной, а я недовольна им. И мы, кажется, немножко недовольны каждый — сам собой, я, по крайней мере.
Еще он не слышит меня, кажется.
То ли мое недовольство, то ли еще какая-то злость на него заставляют меня зацикливаться на том, что он, якобы, опять и попусту приревновал.
— Слушай, чего ты про него вспомнил?
— Это не я про него вспомнил, а ты, — говорит Рик. — Ты каждый раз про него вспоминаешь, когда разговор заходит о детях.
— Да потому что… в моей… гребаной жизни… они только от него и возникали, эти дети. Так вышло. Ты выяснить хотел — ну, выяснил. А хочешь, давай теперь тебя поразбираем?..
— Меня? А что тебя интересует?
— В самом деле, что меня может интересовать. О себе ж как не рассказывал, так и не расскажешь.
— Ну, расскажу — и что с того? Давай, спрашивай.
Где-то я это уже у него слышала и видела. Ах, да. Когда попробовала как-то раз завести разговор о его матери. Что же там такое было с его матерью?..
— Ну, например, про родителей твоих, — говорю. — Про маму…
Недоверие, разочарование и недовольство теперь видоизменяются. Теперь в его взгляде уже откровенная враждебность, угроза даже.
Будто сказать он мне хочет
«Нарываешься? Давай, попробуй».