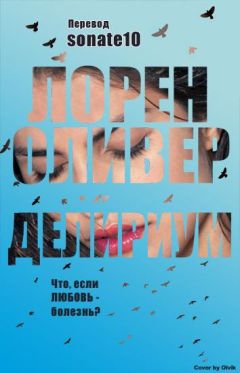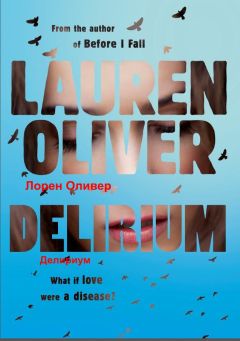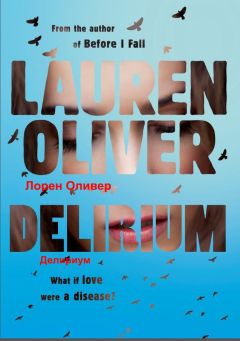И снова потрясение: порча или уничтожение Книги Тссс — это святотатство.
— Каждый день я отправлялся к границе и гулял вдоль неё по нескольку часов. Иногда плакал.
Чувствую, как он смущённо поёживается — должно быть, ему неловко. За всё время своего рассказа он впервые дал понять, что осознаёт моё присутствие и говорит всё это для меня. Желание потянуться к нему, взять за руку или обнять и как-то утешить почти нестерпимо. Однако я не отрываю ладоней от пола.
— Но через некоторое время я успокоился и просто гулял там. Любил наблюдать за птицами — они могут взлететь с нашей стороны и перепорхнуть в Дебри! Туда-сюда, так легко и свободно. Мог смотреть на них часами. Свободны, совершенно свободны. Я думал, что никто и ничто не может считаться свободным в Портленде. Я ошибался. Птицы.
Он надолго умолкает, и я решаю, что он закончил рассказ. Интересно, он забыл о моём вопросе — том, после которого он начал говорить? «Почему я?» Но я слишком смущена, чтобы напомнить, так что сижу, молчу и только представляю себе, как он недвижно стоит у границы и смотрит на птиц, парящих над его головой. И при мысли об этом успокаиваюсь.
После целой вечности в молчании, он снова начинает говорить, но так тихо, что мне приходится подвинуться к нему, чтобы расслышать его слова.
— К тому времени, когда я впервые увидел тебя у Губернатора, я уже несколько лет не ходил смотреть на птиц у границы. Но ты напомнила мне о них. Ты прыгала, что-то кричала, и твои волосы выбились из-под резинки, и ты была такая быстрая... — Он встряхивает головой. — Одно мгновение — и тебя нет. Точно — как птичка.
Не знаю как — у меня в мыслях не было повернуться к нему и движения с его стороны я тоже не заметила — но мы вдруг оказываемся лицом к лицу во мраке; всего в нескольких дюймах друг от друга.
— Все здесь спят. Они спят уже много лет. А ты казалась такой... полной жизни и энергии, — шепчет Алекс. Он закрывает глаза и тут же открывает их. — Мне надоели все эти сонные лица. Я устал от них.
Внутри у меня всё трепещет, словно там действительно поселилась стайка весёлых порхающих птичек. Моё тело словно уплывает, подхваченное тёплым потоком... Нет, его как будто продувает жарким ветром, и я разлетаюсь, превращаюсь в воздух.
«Нельзя! Нельзя!» — предостерегает внутренний голос, но это не мой голос. Это говорит кто-то другой — тётя Кэрол, Рейчел, все учителя в школе плюс тот зануда-аттестатор, что задал наибольшее количество вопросов во время моей второй Аттестации.
Я вскрикиваю: «Нет!» — хотя из глубины моей души поднимается, словно пузырьки воздуха в бьющей из земли родниковой воде, другое слово: «Да! Да! Да!»
— Почему? — еле слышно шепчет он.
Его руки находят моё лицо, кончики пальцев скользят по лбу, едва касаются ушей, ямочек на щеках. Везде, где он притрагивается ко мне, начинается пожар. Всё моё тело вспыхивает. Мы оба — словно два языка чистого белого пламени.
— Чего ты боишься? — спрашивает он.
— Ты должен понять. Я только хочу быть счастливой! — Я едва в состоянии пролепетать эти слова. Я словно в тумане, в угаре. Ничего не существует, кроме его пальцев, скользящих по моей коже, зарывающихся мне в волосы. Как бы мне хотелось, чтобы он остановился. Как бы мне хотелось, чтобы он никогда не останавливался. — Я хочу стать нормальной, такой же, как и все остальные!
— Ты уверена, что если станешь как все остальные, это принесёт тебе счастье? — раздаётся шёпот.
Его дыхание на мочке моего уха, его губы касаются моей шеи. Наверно, я всё же умерла. Может, собака искусала меня, мне размозжили голову дубиной, и всё, что происходит сейчас, это только бред? А весь остальной мир исчез. Только он. Только я. Только мы...
— Но я не знаю, как может быть по-другому! — Чувствую, как шевелю губами, но не чувствую, что что-то произношу; однако вот они, слова — плывут в темноте.
Он говорит:
— Я покажу тебе.
И целует меня. Мы целуемся, или, по крайней мере, думаю, что целуемся — я видела поцелуи всего пару раз в жизни: быстрый чмок с закрытыми губами на свадьбах. Но этот поцелуй совсем не такой, он непохож ни на что, что я когда-либо видела, или воображала, или о чём мечтала: он как музыка или танец, только лучше, чем то и другое. Его рот чуть приоткрыт, так что и я приоткрываю свой. Его губы мягко и настойчиво прижимаются к моим, и так же мягко и настойчиво звучит голос в моей голове, повторяющий одно только слово: «да».
Во мне поднимается жар, волны света нарастают и опадают, и я плыву на этих волнах. Его пальцы запутываются в моих волосах, ладони обхватывают мой затылок, гладят плечи; и ни о чём больше не задумываясь, я вскидываю руки, кладу их ему на грудь, потом провожу по горячей коже его спины, по похожим на расправленные крылья лопаткам, по высокой скуле, на которой чуть колются щетинки... Всё это так странно, незнакомо и великолепно, так прекрасно и ново. Сердце колотится в груди так сильно, что начинает ныть; но это приятная боль, как та, что ощущаешь в первые дни настоящей осени с её пряным воздухом, зардевшимися по краям листьями и ветром с еле различимым запахом дыма. Это и конец, и начало — всё вместе. Под моей рукой бьётся его сердце, оно бьётся в такт с моим, отвечает ему, вторит ему эхом, словно наши тела разговаривают друг с другом.
И вдруг всё становится так до нелепости ясно и понятно, что я едва удерживаюсь от смеха. Вот чего мне на самом деле хочется! Это то, чего я хотела всегда. А всё остальное — каждая секунда каждого дня моей жизни до этого момента, до этого поцелуя — не имеет никакого значения.
Когда он наконец отрывается от меня, все мои тревожные мысли и навязчивые вопросы словно окутываются непроницаемым покрывалом, душа наполняется покоем и счастьем, глубоким и чистым, словно первый снег. В ней остаётся только одно слово — «да». Единственный ответ на все вопросы.
«Ты по-настоящему нравишься мне, Лина. Теперь ты веришь?»
«Да».
«Можно, я провожу тебя домой?»
«Да».
«Мы увидимся завтра?»
«Да, да, да».
Улицы теперь тихи и пусты. Весь город тих и пуст. Весь город мог бы исчезнуть с поверхности земли, сгореть дотла, пока мы сидели в лесном сарайчике, и я бы не заметила. А если бы и заметила, то мне было бы всё равно. Мы идём домой, словно во сне. Он не отпускает моей руки, и мы пару раз останавливаемся в самой глубокой и тёмной тени, какую только можем найти, и целуемся. Оба раза я мечтаю, чтобы тени обрели непроницаемость, прочность, чтобы они поднялись вокруг нас сплошными стенами и скрыли от чужих взглядов, чтобы мы могли вечно стоять так — грудь к груди, губы к губам. Оба раза у меня спирает дыхание, когда он отодвигается от меня и берёт за руку, чтобы идти дальше — как будто я могу нормально дышать только тогда, когда мы целуемся.