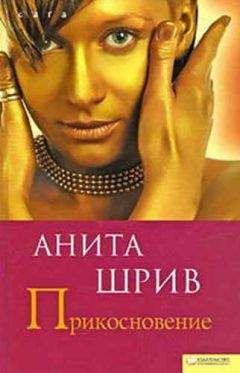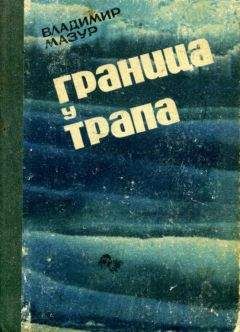Несколько минут назад по дороге прогромыхал грузовик, подняв своими колесами громадные клубы пыли. В этом облаке я заметила какое-то маленькое скачущее существо, похожее на большую птицу, разгоняющуюся перед полетом. Однако, когда пыль рассеялась, я увидела, что это мальчик с корзиной, который гонится за грузовиком. Грузовик остановился, а мальчик выставил свою корзину, ожидая, пока ее наполнят непригодными для рынка обрезками мяса, о качестве которого даже думать не приходится. Я могла бы выйти на дорогу и понаблюдать за этой сценой вблизи, но не смогла собраться с силами. Мне лучше мельком увидеть часть сцены, а остальные детали домыслить, вообразить. Не так ли это бывает у писателя? И на каком жизненном этапе это может оказаться стоящим занятием? Что могут дать они людям — искажения действительности? Чтобы предложить читателю нечто существенное, я должна описать сцену с точными подробностями, как сделал бы это историк, или воссоздать ее, чтобы рассказать что-то важное об этих женщинах, маленьких мальчиках, торговцах мясом. А я этого делать не умею.
Я думала, что ты любишь меня сильнее, чем я тебя. Но это не так. Это я люблю тебя сильнее. Я теперь все время плачу. Питер озадачен, да и как ему не быть таким? Ничего подобного он не заслуживает. Я позволяю ему думать, что это затянувшийся выброс гормонов.
Оставлю тебе послание на полке для сообщений. Тебя будут звать Роджер, а меня — Габриела. Мне всегда хотелось иметь необычное имя.
Л.
Томас дремал в кровати полностью одетый, когда его разбудили ибисы. Он заставил себя поспать, чтобы не томиться бесконечно долгим ожиданием, пока они с Региной сядут в «эскорт» и поедут на прием в отель «Интерконтиненталь». Он пытался писать, но безуспешно: мысли его были постоянно заняты другим, а нервы напряжены до предела. Это началось после возвращения в Карен из города, где в кафе «Колючее дерево» на полке для сообщений он нашел записку Роджеру от Габриелы. «Мой дорогой», — писала она, и он затрепетал от такого проявления ласки, хотя понимал, что это просто игра, которую она ведет, чтобы соответствовать Габриеле, чтобы немного повеселиться, если можно веселиться в таком отчаянном положении. Жалкое веселье. Он подумал: разве есть люди, которым почти всегда весело, когда они влюблены? Это невозможно, потому что влюбленность — состояние слишком обременительное, чтобы оставаться беспечным и беззаботным. «Мой дорогой, — писала она, — я считаю часы до того момента, когда увижу тебя сегодня вечером. Глупо даже думать об этом. Но я там буду. Твоя Габриела».
Он написал ей ответную записку: «Моя дорогая Габриела, ни один мужчина не любил женщину сильнее. Роджер».
Соседские собаки Джипси и Торка, как это бывало часто, спали у них в кухне. Регина варила им кости и впускала собак. Она устроила им место в углу — материнский инстинкт принимал у Регины искаженные формы. Впрочем, Томасу нравились эти собаки — судя по всему, владельцы были безразличны к ним, а животные, как и люди, любят, когда их балуют. В окно Томас видел Майкла, сидящего на камне и жующего вареное мясо, которое только что вынул из бумажного пакета. Трава пожухла, деревья сбросили листья, и делать садовнику было нечего. Вся страна жила в ожидании дождя.
Томас открыл в кухне кран (подумав о чашке чая), и из него выскочил десяток муравьев, тут же утонувших в потоке воды. В засуху всегда было много муравьев. Иногда, войдя в ванную, он видел следы муравьев, которых Регина раздавила пальцем. А где, собственно, Регина? Так опаздывать — не в ее правилах. У Регины обычно часа полтора уходит на подготовку к вечеру.
В эти дни Регина вообще его озадачивала. Человек довольно легкий и беспечный, она теперь будто сбросила вес и словно летала по воздуху. Регина не говорила, а как-то напевала, даже во время спора насчет того, благоразумно ли открыто поддерживать Ндегву, она безмятежно отмахнулась, сказав: «Делай, что хочешь. Ты всегда так поступал». Ее слова неожиданно заинтересовали Томаса: действительно ли он всегда делал то, что хотел? Как будто обнаружилось, что кто-то снял его жизнь на кинопленку и пригласил посмотреть этот фильм. Томасу всегда казалось, что ему чаще не давали делать то, что ему хотелось.
Он разложил на кровати свою одежду. Сегодня вечером он оденется особенно тщательно. Томас специально купил для такого случая серый костюм и новую белую рубашку. Он не имел ни малейшего понятия, что скажет этому Кеннеди. Томас считал, что этот человек вызывает такой большой интерес из-за выпавших на его долю испытаний, не будь их, он не был бы так популярен, даже несмотря на принадлежность к знаменитому семейству. Кеннеди наверняка не помнит его: Томасу было восемнадцать или девятнадцать лет, когда он познакомился с ним. Это случилось уже после того, как погибли Джон и Роберт Кеннеди[53] и власть сконцентрировалась в руках последнего оставшегося брата. Отец Томаса — тайный католик в семье агрессивных кальвинистов, принял своего рода епитимью, собирая крупные денежные взносы в пользу демократов. Суммы были достаточно внушительными, чтобы заслужить благодарность и визит такой высокопоставленной особы, как сенатор Кеннеди. Томас, вызванный отцом, приехал домой из университета — благо расстояние от Кембриджа до Халла не такое уж большое — и мог наблюдать сенатора за ужином, но почти все время молчал, поскольку абсолютно не интересовался политикой.
На письменном столе Томаса в углу спальни вызывающе, словно голая, стояла кисийская каменная шкатулка. Он сказал Регине, что купил ее во время сафари. «Когда Рич покупал ту фигурку у женщины, помнишь?» Да, Регина, кажется, помнила. У шкатулки был крошечный скол, отчего она стала Томасу еще дороже: ему казалось, что теперь она выглядела так, будто Линда ею пользовалась. У него мелькнула мысль спрятать шкатулку и хранить в ней письма Линды, но он тут же отбросил эту глупую идею, зная, что спрятанная шкатулка почти наверняка вызовет интерес. Он складывал письма Линды там, где Регина никогда не стала бы их искать, — среди листов со стихами. В них Регина захотела бы копаться в последнюю очередь. И дело было не в том, что она не ценила таланта Томаса, — по-своему она ценила его. Дело было в том, что поэзия просто навевала на нее скуку, а многочисленные наброски стихов представлялись ей до невыносимости нудными.
Все ждали дождей. Страна была сейчас такой высушенной, что казалось, будто она трескается. Говорили, что скот гибнет и водохранилища скоро опустеют. Уже появились заголовки: «ИЗ-ЗА КРИЗИСА С ВОДОЙ ЗАКРЫВАЮТСЯ ОТЕЛИ». Как и всем, Томасу начали сниться сны о дожде, и он во сне подставлял ему свое лицо. Кризис объединил страну, как ничто другое не могло ее объединить: и «mzungus», и азиаты, и воюющие между собой племена — все искали в небе одинокое облачко, готовые начать празднества с выпивкой и танцами, как только прольется дождь. В том, как это страстное желание захватывало людей, проникая почти под кожу, было что-то атавистическое, падающая с небес вода представлялась самым большим благословением. Пыль была повсюду: на его туфлях, на собаках (иногда красных от муррама), в его ноздрях, волосах. Вода подавалась в ограниченном количестве, из расчета одна ванна в день. Томас наловчился обтираться губкой, чтобы оставлять Регине хотя бы половину ванны, иногда даже просил ее не сливать воду, чтобы хорошо вымыться после нее (мыться после другого человека — верх интимной близости, думал он). Он собирался так сделать и сегодня, готовясь к вечеру, но Регина опаздывала (была уже половина шестого), и он подумал, не помыться ли сначала самому. Но потом все-таки решил, что в такую засуху это будет в высшей степени неблагородно по отношению к женщине.