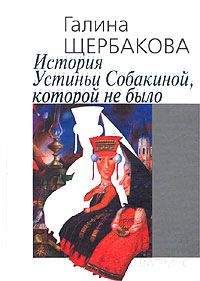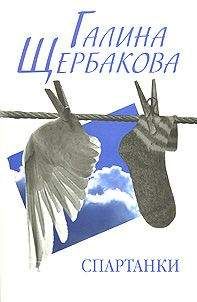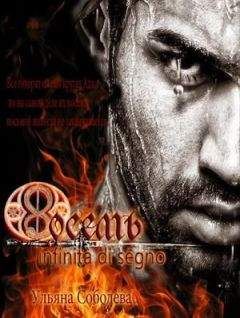Она тогда взяла даже зеркало и стала внимательно себя рассматривать. Все, как у людей. Нос длинноватый, ну и что? У девчонки из соседнего класса не нос, а дверная ручка, а ничего – живет. Конечно, у нее одной в школе дубленка, и она вешает ее в учительском закрытом гардеробе, чтоб не сперли. Но и когда ходит по школе в обыкновенной юбке, все помнят про ее дубленку, а нос, который на семерых рос, как бы отодвигается вдаль. Можно найти и другие сравнения. Каждый недостаток лица там или фигуры всегда должен иметь что-то перечеркивающее его. У Лидки с отвислой губой это полные карманы конфет «Коровка» – ее мать заворачивает их на фабрике. Но главное прикрытие недостатков – конечно же, одежда. И тут, сидя перед зеркальцем, Дита остро возненавидела мать-дворничиху. Это же надо, какое у нее горе с нею! И она пошла с этим горем в кухню.
– Почему ты самая бедная? – закричала она на мать, которая втягивала резинки в теплые, с начесом мужские кальсоны, которые ей отдал сосед по площадке. Выпивоха-дальнобойщик был к ним щедр, потому что мать стерегла его квартиру, когда его долго не было, и кормила страшного драного кота, для блуда которого всегда была открыта форточка. И он гулял сам по себе. И на фиг ему был нужен хозяин, если кормила его дворничиха, полумужик-полубаба со злой девчонкой, которая всегда больно пинала его в бок.
Мать открыла выщербленный рот, и из него вышел не то стон, не то писк, что-то животное. И Дита отвернулась и ушла в комнату. Но мать шла за нею, волоча на полувдетой резинке дареные кальсоны, и говорила несусветное.
– Так как же, доча, если я сиротского племени? Я детдомовская с соска… Я ж сахара живого не видела до пятнадцати лет… А ты в отдельной квартире, и у нас и сгущенка, и мармелад… А ты еще молодая, подымешься выше. У тебя будет всегда куриный бульон с лапшой и драповое пальто с мехом. Чего ж тебе обижаться, если живешь в тепле и не в голоде?
– А в чем я одета? – кричала Дита. – В чем? Ты видишь или слепая?
– Все по деньгам, – бормотала мать. – На себя не трачу, а тебе вот эту купила, как ее… водо…носку…
– Водолазку, – скрипнула зубами Дита. – Берешь с соседа всякое тряпье, а с него надо брать деньги. За его кота-урода надо с него стребовать много чего…
– И… и… – как-то застонала мать. – Я ж его кормлю не своим. Бачковым. А дать твари еду – это же мне тьфу… Какие деньги?
Вот и разговаривай с ней. Остро колола мысль: почему она родилась именно у этой тетки, почему нет отца, бабушки с дедушкой, почему в их доме нет фотографий на стенах там или в альбомах, почему им никто не пишет писем, а значит, правильно, что их почтовый ящик всегда нараспашку, тогда как в других через дырочки видно много всякого. Некоторые набиты, и из них торчат сложенные газеты. Она заглядывала по вечерам в окна первых этажей. Ковры, гарнитуры были почти у всех. Если не гарнитур, так отдельный буфет обязательно стоял возле стены, смотрящей в окно. Никто не сдавался бедности, всякий норовил чем-то похвастаться. Глядишь – и уже на подоконнике напыжился электрический самовар в окружении толстых расписных чашек. А как меняли люди шторы, как чванились то их кубическим рисунком, то малиновыми маками, то последним писком – шторами с оборочками и с поясочком посередине! И только их окно желтело примитивным тюлем, самым дешевым и задрипанным из всех, что висели на крючках в галантерее у самого входа, а те, что дорогие, уже за спиной у продавщиц. Однажды Дита, узнав свой тюль в магазине, рванула его рукой. И что? Никто даже головы не повернул. Рвите, девочка, все равно такое дерьмо никто не покупает.
В общем, к тринадцати годам Синицына знала, что бедна, нелюбима в классе и что она отомстит за все это в свое время. Месть росла в ней, перегоняя природу, и ей доставляло какое-то извращенное удовольствие быть лучшей в учебе, будучи худшей во всем остальном. Она запоминала, чего у нее никогда не будет: перешитых тряпок, однокомнатной квартиры на первом этаже, скрипучего на двоих дивана. Она хранила в себе презрение к матери и гнев на нее же за то, что та рылась в помойных контейнерах и приносила выброшенные примятые банки, треснутые тарелки, полиэтиленовые пакеты, в которых сбрасывались старые вещи. Она ни разу ими не воспользовалась, а мать была счастлива, обнаружив свитерок с затяжками, туфли со скошенными каблуками, комбинации с оторванными бретельками и кофты с дырками на локтях. Мать стирала, штопала, перекрашивала вещи для себя, а на заработанные копейки покупала что-то дочери с рук на базаре. Откуда было матери знать, что всякая ее покупка распаляла месть и ненависть дочери. Даже то, чем всегда она гордилась – редким именем Эдита, было поставлено матери в укор. Будто славой и успешностью другой женщины мать хотела прикрыть собственный срам жизни. Ну не идиотка ли? Мать обожала Эдиту Пьеху. Она замирала перед крошечным блеклым экранчиком, когда высокая красивая девушка в белом жалобно, но гордо пела: «А город подумал, а город подумал – ученья идут». Мать тут же начинала рыдать, а Дита, еще раньше, до своей ненависти, зная наизусть песню, думала о другом: она бы на месте летчиков спрыгнула с парашютом. Ей было бы все равно, сколько внизу жизней. У нее-то она одна. Хватило ума языком об этом не болтать. Но почему-то думалось: все считают так же, единственную жизнь отдавать нельзя. Дита много врала, считая, что вранье во всех случаях – удобно и выгодно. Как сберкасса.
Хотя, что она знает про сберкассу? Ничего. Сроду у них там ничего не лежало. Проценты же от вранья набегали всем неустанно и без сбоев, потому все и врали. Что живем в лучшей стране, а главная ложь – в самой справедливой. Что весь мир нам завидует и уже полмира идет нашим путем, потому как только у нас человек человеку друг, товарищ и брат. Дита примеряла все на себя и чувствовала: жмет и трет. Не то! Мать проклинала дом и жителей, которые специально ей сорили. Дита проклинала мать, что та была дурой и тупицей и не сумела вывернуться из темноты и нищеты. Ненавидела школу, которая жалела ее, некрасивую отличницу, которую нельзя ставить в первый ряд. Стану! – кричала себе Дита. Стану первее всех, а будете мешать – растопчу. Это вот «растопчу» из какого-то детского стишка проросло в ней особенно. Слово было с ней одной крови, одной цели. Она даже думала, что когда вырастет, то поменяет фамилию на Растопчину. Фамилия вкусно лежала на языке, она была слегка горьковатой, так она ведь и любит перец. И полынь любит. Все горькое ей сладко.
Когда Дита «заходилась в мести», – а с ней такое бывало, – горели лицо, шея, хотелось рвать все ногтями, зубами, и она, прежде всего, видела перед собою отца, которого должна найти и убить. Отца, которого как бы не было «ваще».