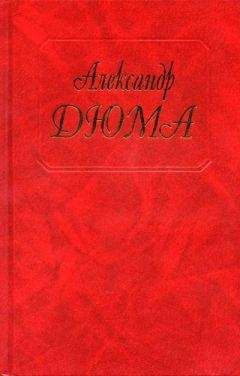Эбон никогда не оставался на одном месте подолгу. Даже если его стукач в новоорлеанской полиции не предупреждал о предстоящем налете настырных легавых, он никогда не оставался на одном месте более двух недель. Формально штаб-квартира «Лиги чернокожих за свободу сегодня» располагалась во Французском квартале, но настоящая штаб-квартира оказывалась там, где в данный момент проживал Эбон. Он был основателем, духовным вождем, повелителем и властелином Лиги.
В настоящее время Эбон снимал две комнаты на Берганди-стрит, в двух кварталах от официальной штаб-квартиры. Двухэтажный дом был старым и обветшалым; принадлежал он двум вдовам, которые жили на первом этаже и были такими праведницами и придирами, какими только могут быть две седовласые старухи. Но они были также глухими и полуслепыми. К тому же квартира Эбона располагала тремя входами и выходами: через окно спальни и по крыше; через заднюю дверь и заросший бурьяном двор в укромный проулок; по лестнице вниз и через парадное на улицу. Последним путем Эбон никогда не пользовался сам и своим соратникам строго-настрого наказал всегда приходить и уходить только проулком.
Сейчас Эбон в полной неподвижности, как каменный идол, сидел в сгущающейся темноте и ждал двух своих людей.
Каждый четвертый житель Нового Орлеана при-. надлежит к чернокожим. Чистокровные негры, однако, из-за происходившего с самых первых дней рабовладения смешения рас представляют собой крайнюю редкость. Мулаты до начала двадцатого века пользовались особыми привилегиями — их даже называли не неграми, а цветными. Они были свободны — когда у рабовладельца появлялось дитя от чернокожей рабыни, ей в большинстве случаев даровалась свобода, чтобы ребенок тоже считался свободным. Мулаты в Новом Орлеане передвигались совершенно беспрепятственно, численность их быстро возрастала; многие стали богатыми и влиятельными людьми. Класс мулатов, более многочисленный в Новом Орлеане, нежели в любом другом городе Юга, не ощущал на себе расовых предрассудков в сколь-нибудь значительной степени вплоть до начала 1900-х годов, когда были приняты законы, которые не делали различий между негром и мулатом.
Эбон был чернее дегтя. Так черен, что при определенном освещении его кожа казалась синей. Он неимоверно гордился этим и не сомневался, что в его родословной нет ни капельки белой крови: как-то на досуге он проследил историю своей семьи вплоть до прибытия судна с рабами из Африки.
Некогда Эбона звали Линкольном Карвером, но еще в юности он отказался от этого имени, поскольку оно слишком сильно отдавало смиренным духом старого Тома из романа Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». Пусть шестнадцатому президенту США Аврааму Линкольну приписывают освобождение братьев Эбона по крови. Но что он потом-то для них сделал?
А этот Вашингтон Карвер? Вылитый дядя Том!
Отсюда, значит, следует, что он будет зваться Эбоном. Черный по цвету кожи, черный (как смоль, если переводить с английского) по имени.
— Эбон?
Сисси появилась в дверном проеме в коротенькой ночной рубашонке, не скрывавшей заросшего завитками волос лобка. Кожа у нее была черной. Почти такой же черной, как у Эбона. Ее прическа напоминала венчавший голову буйный пчелиный рой.
— Не терпится, сучка? — рявкнул он. — Сказал же, у меня дела. Давай живо затолкай свою черную задницу обратно в спальню, пока не освобожусь. — Внезапно он ухмыльнулся. — И прикрой мохнатку-то… Если попадешься Эмберу на глаза в таком виде, он так разволнуется, что его аж в жар бросит.
Сисси ретировалась в спальню, а Эбон поднялся на ноги и потянулся, грудь его сотряс громогласный хохот, как только он подумал о том, что Эмбера бросит в жар при виде голой мохнатки. Он подошел к окну — верзила за негр девяносто в черном тренировочном костюме. В свои тридцать лет Эбон являл собой физически превосходный экземпляр и походил на атлета, возможно, футболиста. Футболистом он был в колледже — и очень хорошим. Когда он бросил учебу за год до окончания, профессиональный клуб предложил ему щедрый контракт, но для Эбона такая карьера интереса не представляла. Это был не его путь.
Прическу в стиле «афро» он не носил, голова его была обрита наголо. Он считал, что это придает ему зловещий вид, какового эффекта он и добивался. Если его внешность пугает белых, это же хорошо. Если его боится даже кое-кто из своих, еще лучше.
Стоя у окна, он разглядывал заросший двор и проулок. Через минуту он заметил пробирающихся к дому Эмбера и Грина. Эбон смотрел, как они зашли во двор, и продолжал наблюдать еще некоторое время, чтобы убедиться, что за ними нет слежки. Этой давней привычке он не изменял никогда.
Потом он отошел от окна, устроился за стоявшим в центре комнаты столом и стал ждать. Через минуту до него донеслись приглушенные голоса;
Сисси впустила их с черного хода. Он не проронил ни слова, пока они входили и усаживались за столом напротив него.
Эбон служил в армии, почти полтора года он воевал во Вьетнаме. Вокруг грязь, зной и смерть, а он вернулся на гражданку без единой царапины. Когда он сколачивал Лигу, то призвал на помощь недюжинное чувство юмора. Ни одного из его заместителей в организации не знали под настоящим именем.
Эбон присвоил им названия цветов радуги. Именно так делают в армии в ходе военных операций.
Эбон был убежден, что кодовые имена, которыми он нарек сидевшую против него парочку, подходят как нельзя лучше. Они работали как группа, и работали очень успешно. Эбон сравнивал их с сигналами светофора: желтый — тормози, зеленый — полный вперед. Эмбер, то есть тормозящий желтый, — мрачнейший пессимист, был из них двоих постарше, поосторожнее да и поумнее; и еще было в нем что-то от старой девы. И хотя Эбон не мог привести достаточных доказательств, он был уверен, что Эмбер гомик. Но он был храбрее быка и все приказы выполнял неукоснительно, в этом на него можно было положиться полностью.
Грин — зеленый — молод, еще и тридцати нет, беспредельно предан их делу, горяч, легковерен, фанатичен, опасен как смертоносная барракуда. И хотя Эбон еще не пробовал его в деле, он не сомневался, что Грин пойдет на убийство по одному лишь его слову.
По сложившемуся у них обычаю, Эмбер заговорил первым:
— Городские власти отказали нам в разрешении провести демонстрацию во время парада короля Рекса, Эбон.
— Что и следовало ожидать, — бесстрастно произнес Эбон. — Я был бы разочарован, если бы они поступили по-другому.
— А чего же тогда просить этих ублюдков? — вспылил Грин.
— Если бы мы получили разрешение на демонстрацию, она бы потеряла всякий смысл, — терпеливо разъяснил Эбон. — Нас бы просто не замечали. А так о нас все узнают. Когда наши люди лягут прямо перед платформами, я хочу, чтобы их заметила вся страна. Хочу, чтобы телекамеры показали их лица.