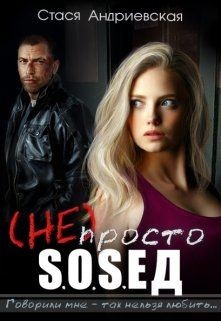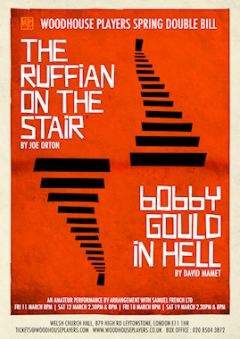щекам тут же поползли тяжёлые капли, и чтобы не выдать их, Маринка просто молча скрылась в подъезде.
Папы дома не было, Оксана по-прежнему сидела у Тёмушки. Бесшумно скользнув в свою комнату, Маринка свернулась на постели калачиком и накрылась с головой покрывалом. И как до этого слезы наворачивались, но не могли прорваться, так теперь наоборот, не могли остановиться, текли сами по себе.
Задремала, но, едва услышав сквозь дрёму, как щёлкнула ручка двери, подняла голову.
– Я думала, ты спишь, – тихонько шепнула Оксана, присаживаясь на кровать. – Как себя чувствуешь?
– ...Нормально.
– Это хорошо, а то Тёмка приболел. Он у себя в комнате, но и ты лучше без нужды не ходи по квартире. Тебе сейчас вообще болеть нежелательно, первый триместр самый ответственный.
Маринка сжалась. Раньше было страшно сказать про беременность, а теперь, вдруг, ещё страшнее про аборт.
– Я не буду рожать, Оксан.
– Здрасти, приехали! Это ещё с чего?
– Ну... Я не хочу, чтобы вы с папой ругались из-за меня. А вы ругались. Я слышала ночью.
Оксана улыбнулась:
– Слышала звон, да не знала, где он! Мы не ругались, а обсуждали. Папа конечно зол, но в адеквате. Просто он считает, что Данилу это всё не касается, и он не должен знать о ребёнке, а я наоборот, убеждала, что парень имеет на это полное право. А потом у Тёмушки поднялась температура и нам вообще не до этого стало. Ладно, отдыхай. – Встала, подошла к двери. – И, кстати, папа молодец! Сумел взять себя в руки. Я тебе сразу сказала, ему просто нужно время, чтобы свыкнуться с мыслью. Так что не переживай, всё будет хорошо.
Она вышла, а Маринка снова свернулась под покрывалом калачиком. Думать обо всём этом сейчас было выше её сил.
*** *** ***
Долго не решался. Нет, ну правда, что он ей скажет: «Извини, не понял, что был у тебя первым»? И что? И зачем это теперь, вообще?
По-хорошему – так ему бы просто уйти с их горизонта и всё. Но что-то не давало. Не так-то просто сделать просто, когда всё непросто.
Надо же... Первый. У неё.
Хотелось выть и грызть локти от осознания того, каким же он всё это время был идиотом.
И от того, насколько всё это бесполезно. Хоть наизнанку вывернись, а она всё равно девушка братана, и у них всё было в ажуре, пока не вмешался он, третий-лишний.
После вискаря голова не болела, но мучал сушняк и требовалось ещё поспать, да и время на это было, а вот сна, как назло, ни в одном глазу.
Барс как всегда хотел жрать, холодильник как всегда пустой. Выгреб ему в миску банку кильки в томате и пошёл в душ. Когда вышел из ванной, довольный Барс уже орал под дверью, требуя выпустить его на улицу. И именно в этот момент решился и сам Данила.
Домой к Маринке не пошёл – не имел теперь права, не его это больше тропинка. Сел во дворе, приготовился ждать хоть до вечера. Но Маринка появилась уже минут через сорок – потерянно брела, глядя под ноги, ничего вокруг не видя и не слыша.
Ну вот, а Кирей говорит, ей пофиг на их ссоры. Не пофиг. Переживает, ещё как!
Догнал уже возле самого подъезда, коснулся напряжённо поднятых плеч, настойчиво уговаривая остановиться:
– Два слова, Марин!..
И потерялся. Смотрел на неё, а в голове лишь: «Первый. У неё» И нежность, от которой дышать трудно.
Суетливо убрал руки, сунул от греха подальше в карманы, а самому так хотелось обнять ладонями её лицо, поднять опущенную голову, в глаза её заглянуть...
– Я... – начал, и замолчал. Чёрт. А это, оказывается, ещё и больно.
Нащупал в кармане цепочку. Особенную, армейскую. Была такая фишка – обмениваться с друганами кусочками своих цепочек и из собравшихся обрывочков собирать одну целую – на память. А сейчас она была вдвойне особенной – на ней теперь висела половинка сердца... И решение вдруг пришло: всё, значит, всё. Без брехни самому себе. Протянул кулон Маринке:
– Вот, короче. Возвращаю.
...А дальше нёс какую-то пургу. По сути – именно то, что и собирался сказать, а по факту – обрывки мыслей, выдранные из сердца. Несвязанные «бе» и «ме», которые давались так туго, что, казалось, царапали горло. Кто бы знал, что это будет так трудно – окончательно отказываться от того, что и так не твоё!
Смотрел под ноги – то на асфальт, то на Маринкины загорелые щиколотки и розовый лак на ноготках милых пальчиков. И даже от этого мысли разбегались. А когда она резко сорвалась и скрылась в подъезде, успел поймать взглядом лишь её стройный силуэт и каскад распущенных волос – прямо как в тот день, когда впервые, вот так же со спины, заметил её единственную среди вокзальной суеты. Это же надо, как угораздило!
Стало ли ему легче после этого разговора? Не особо. Но зато остро захотелось рвануть куда-нибудь на неделю-другую, например, к матери в посёлок. Местечко, конечно, не особо, но всё подальше от всей этой любовной мутотени.
– Магницкий! – требовательно окликнул кто-то, когда Данила заходил в свой подъезд. – Стоять!
Данила обернулся, и на него тут же кто-то налетел, прижал к стене, передавив локтем шею. Оба напряжённо застыли, но кроме злого сопения, ничего не последовало. Проморгавшись, Данила, наконец, узнал – опер Иванов! Причём, очень злой опер Иванов! Прохрипел:
– Здрасти... Вы за тапками что ли?
Тот перехватил его за химо:
– Я те щас такие такие тапки устрою, сопляк! Забудешь, как маму родную зовут! Напаскудил, гад? Совсем охренел?
Побуравили другу друга взглядами.
– Вы о чём? Я не догоняю, серьёзно.
Опер отпихнул его и заметался по предбаннику.
– Короче, сказать-то я тебе скажу, но если хотя бы увижу рядом с ней... Помяни моё слово, Магницкий, сразу все грешки тебе припомню, а если надо, и новые найду, никакая крыша не поможет. Упакую по всем правилам, так и знай. Это ясно?
– Да чего ж не ясно, ваши ментовские методы кто не знает-то? – закипел в обратку Данила. – Сначала загрести, а потом уже разбираться за что. А главное – почём. Да?
Опер рыпнулся снова прижать его к стене, но на этот раз Данила не дался. Завязалась недолгая борьба... И разошлись по своим углам.
– Короче, я предупредил. Лучше вообще