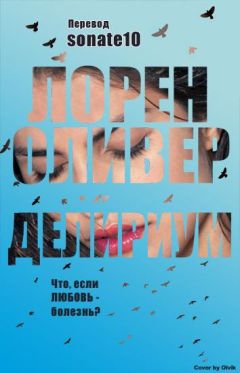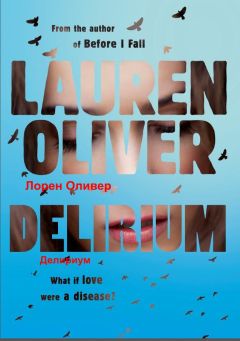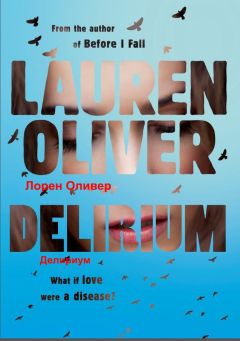У нас есть любимое место — дом №37 по Брукс-стрит. Построенный в старом колониальном стиле, он служил когда-то жильём для семьи симпатизёров. Подобно многим другим домам в Диринг Хайлендс, после «великой зачистки» эту виллу закрыли и заколотили, но Алекс показывает нам, как можно проникнуть в дом, отодвинув планку на одном из окон первого этажа. Очень странно: хотя вся усадьба была разграблена, но многое из мебели (особенно та, что побольше и помассивней) сохранилось, книги на полках — тоже. Так что, если не обращать внимания на общую запущенность, можно вообразить, будто хозяева только-только вышли и вернутся домой с минуты на минуту.
Первый раз, когда мы появляемся здесь, Ханна идёт впереди и выкрикивает: «Эй! Здесь есть кто-нибудь?» Но комнаты темны и пусты, меня даже дрожь пробирает от холода и мрака. После ослепительного солнца снаружи контраст головокружительный. Алекс притягивает меня поближе к себе. Я, наконец, привыкла к его прикосновениям и больше уже не верчу головой по сторонам в поисках затаившихся шпионов каждый раз, когда он наклоняется ко мне для поцелуя.
— Потанцевать не хочешь? — поддразнивает он.
— Перестань! — отмахиваюсь я. Наши голоса в этом тихом месте кажутся чересчур громкими. До нас доносятся оклики Ханны — как будто она кричит откуда-то очень издалёка. Неужели дом такой огромный? Сколько же здесь комнат, утопающих в пыли и мраке?
— Я серьёзно, — говорит он и широко раскидывает руки. — Лучше места не найти!
Мы стоим посреди того, что когда-то было красивой гостиной. Она огромна — больше, чем весь первый этаж в доме Кэрол и Уильяма. С теряющегося в темноте потолка свисает гигантская люстра. Она тускло поблёскивает в свете немногих узких солнечных лучей, проникающих через заколоченные окна. Если прислушаться, то можно услышать, как скребутся мыши за стенами. Но брезгливости или опаски это не вызывает, наоборот — здесь уютно. Я так и представляю себе зелёные леса и бесконечный круговорот жизни, смерти, роста, увядания... Таков и этот дом, постепенно, сантиметр за сантиметром[22] врастающий в землю.
— Но у нас же нет музыки! — упрямлюсь я.
Он передёргивает плечами и подаёт мне руку.
— Значение музыки для танца сильно преувеличено! — заявляет он и притягивает меня к себе вплотную.
Теперь мы стоим грудь в грудь, тесно прижавшись друг к другу. Алекс настолько выше меня, что моя голова едва ему по плечо; я слышу, как бьётся его сердце — и этого ритма нам достаточно.
Но самое лучшее, что есть в этой усадьбе — сад позади дома. Узловатые ветви древних толстых деревьев образуют над головой сплошной полог, а внизу, под ним, простирается пышный ковёр давно не стриженной травы. Солнечный свет проникает сквозь древесный шатёр и там, где он пятнами ложится на траву, она кажется белёсой. В саду прохладно и тихо, как в школьной библиотеке. Алекс принёс с собой одеяло, и теперь оно всегда лежит здесь, в доме; когда мы приходим, то расстилаем его на траве, и валяемся все трое, иногда по нескольку часов — болтаем ни о чём, смеёмся без повода... Иногда Ханна или Алекс покупают немного еды — тогда мы устраиваем пикник. Один раз я стащила из дядиного магазина три банки колы и целую коробку карамели. От такого количества сахара в крови мы слегка одурели и принялись резвиться, как малыши, разыгравшись в чехарду, прятки и пятнашки.
Некоторые из деревьев в обхвате могут потягаться с водонапорной башней, и я делаю с Ханны несколько снимков, когда она, помирая со смеху, пытается обхватить одно из них. Алекс замечает, что эти деревья растут здесь, должно быть, уже много сотен лет. Мы с Ханной замираем. Ведь это значит, что они были здесь ещё до закрытия границ, до того, как поднялись заграждения и Болезнь была изгнана в Дебри. Когда он роняет это замечание, у меня сжимается горло. Хотелось бы мне знать, как оно всё было в те времена...
Однако по большей части мы с Алексом проводим время наедине, а Ханна прикрывает нас. После нескольких недель, когда мы совсем не общались, я вдруг зачастила к ней — хожу каждый день, причём иногда по два раза: один раз действительно встречаюсь с Ханной, а второй — с Алексом. К счастью, тётя не цепляется, наверно, думает, что так мы пытаемся наверстать упущенное за время нашей ссоры. Собственно, это совсем не далеко от истины и устраивает меня со всех сторон.
Не помню, была ли я когда-либо так счастлива, как в эти дни. Не помню, чтобы я даже мечтала испытать подобное счастье! Когда я говорю Ханне, что никогда, даже за миллион лет, не смогу отплатить ей за то, что она покрывает нас, она лишь лукаво улыбается и говорит: «Ты мне уже отплатила». Не совсем понимаю, что она имеет в виду; просто радуюсь: теперь она снова моя заветная подруга.
Когда мы с Алексом одни, мы ничем особо не занимаемся, лишь сидим, разговариваем, а время, кажется, так и летит, сгорает, словно бумага в пламени свечи. Вот сейчас три часа пополудни, а в следующую минуту — свет дня меркнет, небо темнеет — приближается запретный час.
Алекс рассказывает мне о своей жизни: о «дяде» с «тётей» и немного о роде их деятельности, хотя о совместных целях симпатизёров и Изгоев и о том, как они собираются их достичь, упоминает довольно туманно. Ну и ладно. Не уверена, хочется ли мне это вообще знать. Когда он говорит о необходимости сопротивления, голос его становится жёстче и в словах явственно ощущается гнев. В такие мгновения, правда, совсем короткие, ко мне возвращается давешний страх перед Алексом, и слово «Изгой» набатом гремит в моих ушах.
Но в основном он рассказывает об обыденных вещах: о кулинарных изысках тётушки, о том, что когда они собираются вместе, дядюшка, слегка поддав, ударяется в воспоминания и рассказывает одни и те же навязшие в зубах старые истории. Оба они Исцелённые. Когда я спрашиваю Алекса, не чувствуют ли они себя сейчас более счастливыми, чем раньше, он лишь пожимает плечами:
— Конечно, но боли им тоже не хватает.
Что-то это до меня не очень доходит. Он взглядывает на меня уголком глаза и поясняет:
— Знаешь, когда мы окончательно теряем дорогих нам людей? Когда больше не ощущаем боли от их потери. Так и здесь.
А ещё он много рассказывает о Дебрях и тех, кто там живёт. Я кладу голову ему на грудь, закрываю глаза и представляю себе этих людей: женщину, которую все зовут Сумасшедшая Кэйтлин — из всяких металлических обрезков и банок из-под колы она мастерит огромные винд-чаймы[23] — или Дедушку Джонса, которому уже за девяносто, а он всё ещё каждый день уходит в лес по ягоды или на охоту. Мечтаю о ночлеге под звёздами; о поздних вечерах у костра: собравшиеся вокруг ужинают, разговаривают или поют, дым улетает в ночное небо...