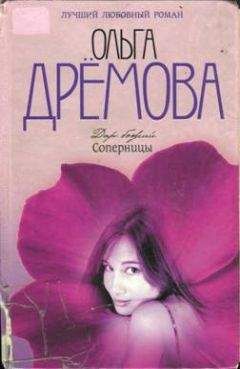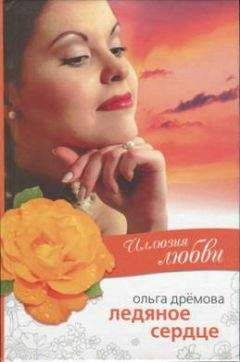— Не надо меня утешать, я знаю, что говорю! — захлебнулся Андрейка. — Когда он уходил за руку с этим, я сказал ему, что он предатель, что он последний негодяй и предатель и чтобы он никогда не возвращался назад! — Голосок Андрейки звенел пронзительно и горестно, а глаза его были полны слёз. — Я сказал ему, что даже если он подохнет где-нибудь под забором, то мне будет наплевать! Вот что я ему сказал, теперь и вы знайте об этом, пусть, мне всё равно!
Кулачки мальчишки сжались, плечи поникли вниз, и весь он как-то съёжился и стал меньше.
— Ты сказал это в запале, Гришка знает, что ты этого не хотел, — попыталась успокоить сына Маришка. Она притянула его голову к себе и принялась гладить его непослушные тёмные вихры, но Андрейка вырвался из её рук, вскочил на ноги и, зло сверкая глазами, закричал: — Вы опять ничего не поняли, я так хотел, я этого хотел, слышите!
Андрейку била дрожь, руки его тряслись, а из глаз катились крупные круглые горошины слёз. Поднеся ладошки к лицу, он плотно прижал их к глазам, словно хотел отгородиться от всего мира, но слёзы, солёные и обидные, скатывались у него с рук, находя дорожку между пальцами. Слёзы были противными и едкими; сползая вниз, они оставляли на тыльной стороне ладошек кривые полоски.
— Не надо, Андрей, не казни себя так, этим Гришке не поможешь. — Маришка встала с дивана, прижала Андрейкину голову к себе и провела ладонью по трясущимся лопаткам мальчика. — Пойдём, я уложу тебя спать, — тихо сказала она.
— Я не пойду, — замотал головой он, — я не могу пойти туда один, без Гришки, понимаешь, мама?
— Да, сынок, понимаю, — Маришка с жалостью посмотрела на Андрейку.
— Я всё равно не усну без него, — всхлипнул тот.
— Пойдём к тебе, ты просто ляжешь, и мы поговорим, — предложила она. — Я не заставляю тебя спать, ты просто ляжешь отдохнуть, а я посижу рядом.
— Ты никуда не уйдёшь? — с надеждой спросил он.
— Никуда, — пообещала она, беря его за руку.
Горе Андрейки было огромным, но юность берёт своё: минут через пятнадцать всхлипывания затихли, и он заснул, а Маришка вернулась в большую комнату. Лев по-прежнему сидел в кресле, слушая тиканье часов и держа одну руку рядом с телефонной трубкой.
За то время, что пробыл в Москве, он изменился до неузнаваемости. Бледное лицо выглядело отрешённо и мёртво; между бровями залегла глубокая вертикальная складка, напоминавшая трещину в коре дерева; карие глаза неуловимо высветлились, будто сожжённые невыплаканными слезами, а на голове появились новые седые пряди.
Говорить было не о чем; звук стрелок, перепрыгивающих деления с раздражающей пунктуальностью, разрывал мозг на тысячи мелких кусочков, доводя до тошноты. Всё, что можно было сделать, он сделал. На ноги была поднята вся милиция, данные Гришки объявили в розыск. Телефон накалился от напряжения, не успевая переключаться с номера на номер, а потом вдруг всё стихло, и в этой тишине стало нечем дышать.
Сидя в кресле, Вороновский думал о том, о чём не мог сказать вслух, не желая добавлять исстрадавшейся душе Маришки ещё и эту боль. Нет, виноват в том, что произошло, не Андрейка, а он, Лев. В мире всего поровну, и доброго и дурного, иначе и быть не может, иначе Земля давно соскочила бы со своей оси. Всё в мире уравновешено, всё правильно и вымерено, но не всегда справедливо. Возмездие за искушение должно было коснуться только его одного, но расплата за грех оказалась во много раз большей самого греха.
Маришка сидела в уголке дивана, завернувшись в тёплый плед, бессмысленно глядя в одну точку. Болезнь ещё не прошла окончательно, и её снова знобило. Прикрывая воспалённые веки, она чувствовала, как сухой мелкий песок царапает глаза, словно проводя колкой наждачной бумагой и обжигая роговицы. В ушах звенело, отдаваясь сотней комариных писков, а голова, тяжёлая и непослушная, сама собой клонилась к груди.
Больше часа они сидели молча, за окном уже начало темнеть, когда тишину квартиры разрезал телефонный звонок. Маришка и Лев одновременно ухватились за трубку, и она, выскользнув, упала на пол. Лев бросился на колени, боясь, что звонки прекратятся, но трубка не замолчала, и вслед за первым звонком раздался второй.
— Алло! — Ладони Льва стали влажными от волнения и, чтобы не выпустить трубку снова, он схватился за неё обеими руками. — Алло! — повторил он громче.
— Лев Борисович?
— Я вас слушаю! — проговорил он и кивнул головой Маришке, указывая глазами на кнопку громкой связи. Дважды просить не пришлось: метнувшись молнией к базе, Вороновская нажала нужную кнопку и замерла в ожидании.
— Лев Борисович, это вас из розыска беспокоят, капитан Чистов, — проговорил достаточно молодой мужской голос. — У нас есть новости относительно вашего сына.
— Я слушаю очень внимательно, — проговорил Лев, и Маришка увидела, что муж старается держаться молодцом, но губы его дрожат.
— Мы проработали все вокзалы, водные пути и аэропорты. Нам удалось выяснить, что ваш сын Григорий был вывезен из России по подложным документам на самолёте и сейчас он находится в Канаде.
— Где? — выдохнул Лев.
— В Канаде. К сожалению, ничего больше я пока добавить не могу, но вы не волнуйтесь, наши канадские коллеги уже в курсе, и, как только появятся какие-нибудь сведения, мы сразу же вам обо всём сообщим.
— Он в Оттаве, — проговорил Лев, и голос его оборвался, а лицо покрыла мертвенная бледность.
— Почему вы так решили? — удивлённо спросил Чистов.
— Ему больше негде быть.
— Канада большая, — усомнился Чистов. — У вас есть какие-то дополнительные сведения?
— Да, — глухо подтвердил Лев.
Объяснять ничего не требовалось, Маришка всё слышала своими ушами. Повернувшись ко Льву, она смотрела на него, прямо в лицо, не отрываясь, не говоря ни слова. Лев поразился тому, что глаза её не выражали ничего: в них не было ни боли, ни отчаяния, ни слёз, в них не было ничего.
— Она в Канаде, — сказал он и замолчал, ожидая её реакции, но Маришка продолжала стоять, не шевелясь, словно изваяние из камня, и смотреть ему в лицо. — Я видел её.
Стрелки часов продолжали тикать, каждый раз перекладывая невесомое зёрнышко в чью-то корзинку жизни. Лев видел, как запёкшиеся губы Маришки изломались:
— Если Гриша у неё в руках, то нам рассчитывать больше не на что.
* * *
Ещё сутки миновали с тех пор, как телефонный звонок принёс хоть какие-то известия о Грише и наполнил страхом сердца Вороновских. Говорят, человек — не иголка, но, вопреки всем законам жизни, известий о мальчике так и не было.
Время — странная штука, оно беспощадно и милосердно одновременно. Недели и месяцы, складываясь в годы, незаметно мелькают одни за другими, неудержимые и неумолимые, как сама судьба. Но есть в мире сила, способная если не остановить, то хотя бы замедлить мелькание дней, — это человеческое страдание. Чем тяжелее груз боли и отчаяния, чем глубже страдание и горе, тем медленнее поступь времени и тем длиннее его дорога.