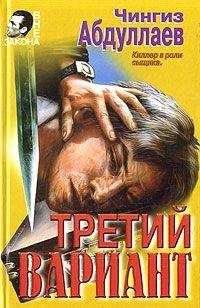женщину просто потому, что она — чья-то там жена. А другое — когда за своё…
Страшная его слава прочно летела далеко впереди него…
— Хазар! — заорал, не выдерживая, Аминов, — это ошибка! Ошибка! Давай договоримся!
Но Хазар прошел мимо, даже не задержавшись взглядом на недавнем партнере.
Он для него уже не существовал.
— Ар, забирай Ляльку, нечего ей тут… — Каз, видно, получив какой-то невербальный сигнал от босса, поспешно загородил Аминова, все еще взывающего к каменной спине Хазара, от посторонних взглядов.
А Бродяга, очнувшись и больше не слушая моих возражений, опять поднял меня на руки и понес к выходу.
Я смотрела через его плечо на то, как Аминова упаковывают в наручники, а он, перестав звать Хазара, просто утробно воет, словно зверь, попавший в ловушку и осознавший, что это все. Смерть.
И нет, мне не было его жаль.
В машине Бродяга, перед этим тщательно ощупав и расспросив на предмет повреждений и кровотечений и убедившись, что медпомощь мне срочно не требуется, посадил меня на колени, пристегнул нас обоих ремнем безопасности, а затем, когда мы тронулись, обхватил так, что я могла только дышать, но уже не шевелиться.
— Котенок… — прошептал он, уткнувшись мне в висок, — котенок… Я чуть не сдох… Не делай так больше…
— Я не хотела… — начала объяснять я, но Бродяга засопел и закрыл мне рот губами.
Я задохнулась от волнения и сладости, что дарил его поцелуй, выпростала ладони, которыми до этого держалась за ворот его рубашки, и обняла за шею, с наслаждением зарываясь пальцами в отросшие на затылке волосы.
Мой Бродяга прилично оброс, стал таким невозможно стильным, брутальным, красивым до боли… И как я раньше этого не замечала? Или замечала, но просто как-то… привыкла, что ли?
А сейчас я гладила его, трогала и не могла натрогаться, словно заново узнавая этого человека.
Сильного, красивого, моего. Полностью моего.
— Не отпущу больше… — шептал он, вжимая меня в себя, словно спаять нас хотел воедино, навсегда, — ни за что… Если бы с тобой… Я бы сначала всех положил, а потом на твоей могиле сдох… Как пес…
— Дурак какой… — забормотала я, суеверно пытаясь сделать сделать знак отвода беды, — дурак… Даже думать так не смей… Мы будем с тобой долго-долго жить…
Я принялась гладить его по голове, по щетинистым щекам, по шее и бормотать, тихо-тихо, напевно, как моя мама когда-то мне говорила, когда хотела успокоить.
За окном летели деревья, мы неслись по ровной дороге прочь от этого жуткого места, в наш дом, туда, где нам так хорошо было, так спокойно…
Бродяга затих, только сердце его размеренно стучало, я положила руку на его грудь, и оно принялось толкаться мне в ладонь, как крупноголовый щенок лобиком, доверяя и доверяясь.
Я гладила, обнимала своего мужчину, ловила стук его сердца, мерный, тяжелый, и успокаивающе шептала и шептала, словно заговор читая:
— Мы будем жить в большом доме, теплом, красивом… Я рожу тебе мальчика. А потом девочку. А потом еще мальчика… И сыновья будут похожи на тебя, у них будут светлые волосы и яркие глаза, у них будет твоя улыбка и твой характер. А девочка будет похожа на меня… У нее будут рыжие волосы и карие глаза… Наши дети будут встречать тебя с работы у порога и обнимать своими теплыми ручками… А затем мы пойдем ужинать. И смотреть кино. И сидеть у камина. И укладывать детей, целовать их в щечки, ручки, носики… Рассказывать сказку на ночь… А, когда они уснут, мы сядем у камина и будем целоваться… Я люблю тебя, Бродяга мой. Я так тебя люблю… У нас все будет хорошо… Все будет так, как мы захотим. Всегда… Всегда…
Машина летела вперед, оставляя позади все: наше прошлое, наши беды, слезы, боль, отчаяние, страх…
Я шептала и шептала, заговаривая нам счастливое будущее, как когда-то мама мне… И верила в то, что говорила.
Ведь самое главное — это верить. В себя и в своего человека, однажды закрывшего тебя от всего мира, спрятавшего за своей широкой спиной.
И тогда все сбудется.
— Знаешь, Ар, вот если б не знал тебя, то подумал бы, что ты боишься… — Каз оскалился весело и сунул Бродяге в ладонь плоскую фляжку, — вот, чуть-чуть только. Успокоит.
Бродяга глянул непонимающе сначала на друга, затем на фляжку, отвернулся и продолжил методично строгать деревяшку экспроприированным у Ваньки ножом. Просто от нечего делать, чтоб занять руки и не испытывать искушение наворачивать круги вокруг лавки, сквера, корпуса, спрятавшего его котенка.
Ванька сидел неподалеку, лениво прикусив веточку, и болтал по телефону со своей нянькой.
До Бродяги доносились отрывочные фразы:
— Сиди дома, я же сказал, что позвоню… Ну блин, Ань, ну куда ты попрешся с таким пузякой? Отец узнает, опять охрану сменит, а парни не виноваты, что у тебя шило в одном месте… Нет… Я не ругаюсь. И не хамлю. И вообще… Ань, давай я отцу позвоню, он тебе арбуз привезет? Или финики… Хочешь фиников? Врешь, я слышал, как ты слюну сглотнула… Ты только, Ань… — голос Ваньки стал просящим, — ты только его пусти, ладно? Ань…
Бродяга с Казом переглянулись, синхронно вздохнули.
— Вот смотрю я на вас, придурков, — философски продолжил Каз прерванный разговор, — и думаю, что удачно как, что у меня склад характера другой… Это же страшно смотреть… Ну ты-то понятно… У тебя Лялька — одуванчик нежный, а вот Хазар как вперся…
Бродяга только усмехнулся, никак не комментируя слова друга насчет ангельского характера котенка.
Одуванчик, ага… Ну-ну…
Хотя…
Он вспомнил ее рыжие кошачьи глаза и ямочки на щеках, когда улыбается… Волосы медовые… Одуванчик, надо же… Нет, Ляля не одуванчик никакой. Она — чудесная, ласковая, хитрая кошечка, бесконечно преданная тому, кого любит, и готовая ради своего порвать кого угодно на мелкие лоскутки. Смелая, целеустремленная, отчаянная даже.
Аминов сел во многом благодаря ее показаниям. Четким, выверенным, логичным. Вместе с ним сел его друг, начальник полиции этого гребанного городка, в котором обосновались твари, промышлявшие, помимо всего прочего, еще и похищением и продажей людей. Девчонок и мальчишек — в притоны в азиатских странах,