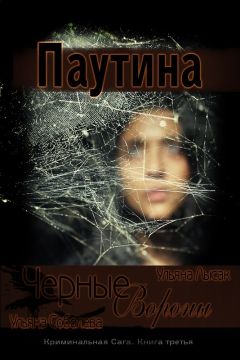Макс
Я смотрел на Беликова, как вытягивается его лицо, как подергивается левое веко по мере того, как он просматривал бумаги, которые предоставил адвокат Андрея.
Не без помощи моей… чтоб ее… невесты. Беликов перебирал бумаги одну за одной, потом перечитывал снова. Да! Мать твою — жри! Мы тебя сделали. Только выражение твоей поганой, обрюзгшей рожи — уже чистый кайф. В голове слегка пульсирует после вчерашнего и слегка дрожат пальцы. Давно я так не нажирался, как последний алкаш. Сам не помню, какой дряни набодяжил, а меня все не брало, пока вдруг не вышибло все мозги, и я не обнаружил себя в каком-то зачуханном стриптиз-баре под струей ледяной воды и Графа рядом, с горящим взглядом «я тебя, мразь, урою». Во рту еще оставался привкус крови и ломило челюсть. Зато отрезвил и… дал себя почувствовать последней тварью. Я в глаза ему смотреть не мог. Потому что он прав. Потому что его правда железная и настолько правильная, что моя по сравнению с ней ничтожная и жалкая, как и я сам, еле стоящий на ногах, со звоном алкоголя в мозгах, с саднящей болью в груди. Как будто после полостной, в скобках медицинских или швах, и разогнуться не могу. Вырезал из себя кусок, а теперь агонизирую, скрюченный и задыхающийся от напряжения.
Я не верил ни во что и никогда. Всю свою гребаную жизнь я верил только себе, и то не всегда. У меня не было друзей, я не дружил даже со своим отражением. Знакомые, связи, нужные люди, которые могли в одночасье стать непотребными и не представляющими никакой ценности. Я отправлял в утиль каждого. Вопрос времени, когда. Но только Андрею удалось то, что не удавалось никому — он заставил меня поверить в то, что семья — это навечно, и это та сила, против которой корчится в конвульсиях беспомощности даже моя костлявая приятельница. Он связал нас в единое целое. Никаких громких слов, только поступки. Мы были прошиты насквозь прочным тросом этой связи, через дырки от пуль и ножевых, которые нахватали друг за друга за то время, что я стал называть его БРАТОМ. Это больше не было пустым звуком, набором букв и генеалогией, я чувствовал, что он и есть моя семья, так же, как и Карина с Дашкой. МОЯ. СЕМЬЯ.
Я бы за него сдох и не сомневался, что и он за меня… не раздумывая. Это ценно, когда в твоей жизни появляется тот, к кому можно смело повернуться спиной и не ждать удара, а знать, что там твой примут на себя и от взрывной собой прикроют.
И сейчас… чувствовал — Граф думает, что я ударил в спину. Ударил его туда, где больно. Он Дашку как дочь любит. Только сказать мне ему было нечего. Хотелось орать, трясти его, дать сдачи, выплеснуть ярость на бл**скую ситуацию, за то, что мордой меня в мою же грязь — и не мог. Что я ему скажу? Что не сдержался, что я, мать его, как школьник прыщавый трясусь в лихорадке рядом с ней, что я имя ее по ночам во сне повторяю, что я без нее, как никчемный мешок дерьма себя чувствую, что на дно пойду рано или поздно. Психом стал неадекватным. Хотел сказать… и не сказал. Он и так понял, когда я по стене на пол…. в коридоре возле лестницы… вытирая воду с лица ладонями.
Сел рядом, а когда я вхолостую чиркал зажигалкой мокрыми пальцами, отобрал и дал прикурить, облокотился о стену. Мы молчали. Я курил, а он смотрел в никуда, потирая сбитые костяшки.
— Жить надо сейчас, Макс. Не завтра. Не через десять лет, а сейчас. У нас «завтра» может не быть. Вроде трогаешь это «завтра», вроде дожил до него, а оно сквозь пальцы водой соленой, и нихрена не остается, только «вчера», понимаешь? Потому что уже поздно!
Я понимал. Я его боль каждой порой прочувствовал. Мы его «завтра» не уберегли и под гранитную плиту с надписью «когда-нибудь я снова буду с тобой» положили, цветами присыпали. Глаза закрыл, затягиваясь сильно сигаретой. Он не знает одного — я боюсь, что мое, такое хрупкое и нежное «завтра» с голубыми глазами, я сам разобью на осколки, уничтожу, измучаю.
— Я хочу, чтоб ОНА жила. А я… как-нибудь. Да так, ни о чем это всё.
А перед глазами ее лицо в полумраке и чуть приоткрытый рот с опухшими от поцелуев губами. Так доверчиво на груди у меня спит. И будь я проклят, если не думал тогда, что хочу вот так каждое утро. Она на моей груди, и солнечные лучи боятся сквозь шторы влезть и разбудить.
— Сожми руку в кулак, — я повернулся к нему и встретился взглядом с его блестящим взглядом.
Не спросил зачем. Я уже привык ему доверять. Сжал пальцы, выпуская дым изо рта.
— Чувствуешь, как трещит?
Чувствую… но не в кулаке, а внутри трещит и рвется по швам, лопаются железные скобки с металлическим «чпок», от них дырки остаются и сукровицей пахнет воздух. Больно, но уже клокочет свобода и можно выпрямить спину. Уже не стягивает до невыносимости, не скручивает напополам.
— Жить начинай, брат. Хватит подыхать. Все, баста. Амнистия. Из дерьма этого вылезем, и давай — живи наконец-то. Сегодня, бл***ь! Не завтра! Если хочешь жить. Выпусти. Разожми пальцы.
Смотрим друг другу в глаза, а я сильнее кулак сжимаю, до хруста, до окаменения мышц и боли в суставах, а потом резко разжал — и судорога облегчения по всему телу. И только мы оба поняли, что это значит.
— Домой поехали. Проспись. Суд днем.
И сейчас, глядя на Беликова, чувствовал, как злорадный триумф растекался по венам, когда он объявил перерыв на четверть часа и удалился на переговоры с адвокатом и обвинителем. Я представлял, как он там орет на них, как брызжет слюной и теребит галстук дрожащими пальцами, как пульсирует жилка у него на лбу. От бессилия. Против умело подтасованных Настей фактов не попрешь. Там все сходится так, как не сошлось бы, будь они правдивыми.
Я выдохнул и в который раз повернулся назад. Искал мелкую взглядом. Должна была быть здесь. Не могла не прийти.
Но не пришла. И не в начале заседания, и не в конце. Внутри все сжалось — значит, хреново ей до сих пор. Представил, как плачет у себя в комнате, и захотелось послать заседание к чертям собачьим, ехать к ней. У меня внутри саднит, место «ампутации» ноет и болит. Мне нужна моя доза ее взгляда, ее голоса. Да просто доза ЕЕ. Утром набирал несколько раз. Еще пьяный, еще в мареве алкоголя и жестокого похмелья — она не отвечала, потом выключила сотовый. Да, мелкая, не хочешь говорить. Болит. Боишься, что будет еще больнее. Или сдачи даешь, так что мне дух вышибает от голоса твоего долбаного автоответчика. От этого проклятого «абонент недоступен».
Я смотрел то на Андрея, то на Карину, которая с кем-то переписывалась в смартфоне, потом снова на дверь, за которой скрылся Беликов. Выходи, тварь, и заканчивай — этот спектакль отыграл ты паршиво, и Оскар на горизонте не маячит.
— Нервничаешь?
Поморщился с раздражением, даже не оборачиваясь и чувствуя, как руки Татьяны обхватили меня сзади за торс. Забыл о ней сегодня. Даже не заметил среди толпы. Да и куда мне, когда трясет с похмелья?


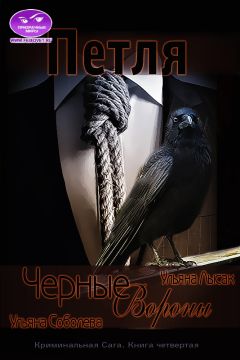
![Ульяна Соболева - Любовь - яд [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/2981/2981.jpg)