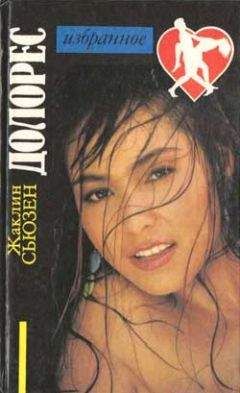– Моя мать права, – гордо похвасталась Эстер Вальвродженски. – В нашей деревне уже давным-давно ни за кем не давали такого приданого, как у Сенды. Ни одна девушка не принесет в семью больше. – Она шмыгнула носом и высморкалась. – У нас никого нет, кроме Сенды. Даже наш дом когда-нибудь достанется ей.
– А наш достанется Соломону, – резко ответила Рахиль, не желая ни в чем ей уступать. И ее голос, и поза выражали крайнее раздражение и негодование.
– Мадам Боралеви! – воскликнула тетя София. – Как вы можете говорить такое? У вас ведь два сына. И Соломон – младший. По традиции наследником является старший сын. Они ведь не могут оба быть наследниками?
Рахиль была в смятении. Она попалась в свою собственную ловушку и теперь проклинала себя за глупость. Весь вечер она усиленно избегала любого упоминания о Шмарии. Ей не нравился тот оборот, который приняли переговоры, совсем не нравился. Каким-то образом противники поменялись ролями, и теперь сильная позиция, которую она и ее семья занимали в начале переговоров, была значительно ослаблена.
– Шмария не годится для жизни в маленькой деревушке, – прошептала она, не отрывая глаз от своих сложенных на коленях рук.
– Значит, вы лишаете его наследства? – хитрым голосом осведомилась старая Голди.
Стоя у окна, Сенда слушала их разговоры со смешанным чувством все возрастающего интереса и отвращения. Она презирала Соломона и ни за что на свете не могла даже помыслить о том, чтобы делить с ним жизнь и постель; она также не могла не следить и за драмой, развертывающейся у нее перед глазами. Сенда отчаянно молилась о том, чтобы Соломон никогда не стал ее мужем. В то же время она не могла не радоваться поражению, которое потерпели Боралеви. Но как только было произнесено имя Шмарии, ее охватила такая лютая ненависть, которую она никогда еще не испытывала. «Как они смеют? – хотелось закричать ей. – Какое они имеют право обсуждать его? Что они знают о Шмарии?» Только она знала его… знала, как он выступает против несправедливости… знала, как он старается бороться с их почти рабским положением и жизнью в еврейском гетто, откуда не было выхода. Он единственный откровенно критиковал Вользака, их землевладельца, который пил из них все соки, и царя Николая II, чьи несправедливые законы допускали это. Соломон прятался за своими книжками, в то время как вся деревня работала не разгибая спины, и только у Шмарии хватало смелости открыто говорить об этом.
На кухне упоминание имени Шмарии быстро положило конец предварительным переговорам, и торговля пошла всерьез. Шмария был паршивой овцой в семье Боралеви – и, несомненно, паршивой овцой во всей деревне.
Все присутствующие знали, хотя никто никогда не мог этого доказать, что слухи о связи Шмарии с анархистами совершенно справедливы. Именно поэтому Соломону было так трудно найти себе достойную жену. Даже раввин не разрешил своей некрасивой дочери Джаел выйти замуж за человека, семья которого была запятнана таким ветреным сыном, хотя никто и не осмеливался сказать это вслух. Без всякого сомнения, Шмария угодит в какую-нибудь историю: это было лишь делом времени. А когда это случится, тогда, может быть, всей семье Боралеви придется отвечать вместе с ним.
– Еще сорок серебряных монет, – твердо проговорила Ева. От осторожной хитрой игры, словесного сотрясения воздуха не осталось и следа. Сейчас она всерьез торговалась за приданое Сенды, и в ее хитрых темных глазах горел жадный блеск. – Плюс сундук с приданым и те двадцать серебряных монет, которые вы уже предлагали вначале.
– Еще четыре серебряные монеты, и ни монетой больше, – ворчливо ответил отец Сенды.
– Еще пятнадцать серебряных монет. – Рахиль Боралеви проницательно посмотрела на семью Вальвродженски. – Вы же не хотите, чтобы ваша дочь голодала?
– Может быть, если она останется дома и не выйдет замуж за Соломона, ей будет, что поесть, – с горячностью заметил дядя Хайм.
– Еще десять серебряных монет, – быстро вставила сваха, стремясь вернуть разговор в деловое русло. До сих пор сваха позволяла выпустить из своих рук ход переговоров, и, если она даст остальным заключить сделку без нее, ей грозит опасность потерять комиссионные.
– Еще пять монет, – твердо проговорил отец Сенды, – и первоначально обещанное приданое.
Рахиль Боралеви взглянула на мужа. Казалось, они без слов обменялись каким-то знаком. Ее муж тяжело вздохнул и печально покачал головой. Он сидел сгорбившись, как будто испытывал сильнейшую боль. В конце концов он пожал плечами.
– Еще семь серебряных монет, и по рукам, – сказал он, – но Господь свидетель, что наша семья останется от этого в убытке.
– Значит, решено, – быстро проговорила мать Сенды.
– За это стоит выпить! – Рахиль Боралеви выпрямилась, ее глаза довольно сияли. – И не хазери, которое мы пьем каждый день. А то хорошее вино, которое мы бережем для праздников.
Тут все разом возбужденно заговорили. Звучавшие несколько минут назад яростные, жестокие обвинения были забыты.
Все вдруг стали лучшими друзьями.
Снаружи, Сенда вцепилась в подоконник и закрыла глаза. От страшной боли у нее из груди вырвался безмолвный стон. Она чувствовала себя совершенно опустошенной. В одно мгновение весь ее мир рухнул. Ей хотелось умереть.
Зажимая рукой рот, Сенда, спотыкаясь, побрела домой; из ее глаз рекой текли слезы. Дойдя до хижины на дальнем краю деревни, где жила ее семья, она почти вбежала в ворота, пронеслась в дверь и, ворвавшись в крошечную спаленку, которую делила с бабушкой Голди, с такой яростью захлопнула за собой дверь, что дом задрожал.
Она бросилась на узкую кровать и съежилась на ней, обхватив себя руками, как если бы страдала от смертельной раны. Ее голова свесилась на грудь, а лицо было залито слезами. Она сидела, не шевелясь и не меняя своей по-детски трогательной и беззащитной позы. Она не подняла головы, даже когда услышала, что ее родители, тетя София, дядя Хайм и бабушка Голди наконец вернулись от Боралеви. В любой другой день Сенда бы тут же вскочила и выбежала обнять их, но сегодня она бы не расстроилась, даже если бы вообще никогда больше их не увидела – всех, кроме бабушки Голди. Не увидела до конца своей жизни. После того как они так хладнокровно торговались о замужестве, к которому она испытывала отвращение всем сердцем и душой.
Послышался шум отодвигаемых стульев и скрип. В кухне говорили все сразу, и до нее доносились обрывки фраз, звон стекла, когда из драгоценной, припрятанной на праздник бутылки наполнялись до половины крошечные стаканчики, чтобы отметить завершение свадебных переговоров.
– Я чувствую такое облегчение! – воскликнула мать Сенды. – На одну минуту мне там показалось, что у меня будет сердечный приступ! – Теперь, когда испытание закончилось, она позволила себе рассмеяться.