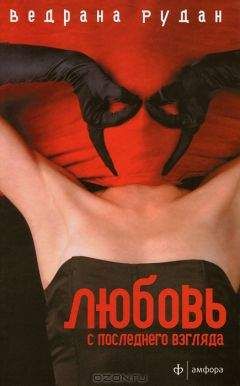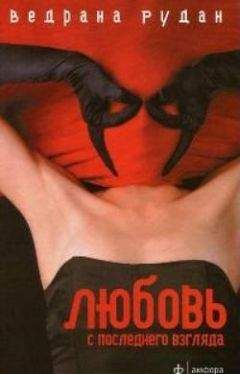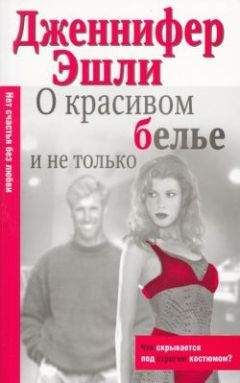Сядь там, говорит мне тетя Мици. Я сажусь на диван. Иногда тетя Мици рассказывает мне истории, а я погружаю свои маленькие руки в ее бусинки. У нее несколько мисок, наполненных бусинками, фиолетовыми, зелеными, золотыми, розовыми, бледно-зелеными, их килограммы, тонны. Тетя Мици рассказывает мне про то, как она была молодой. Наш городок был беспошлинной зоной, все здесь было дешевле, и кофе, и сахар и керосин. Тетя Мици и другие девушки под своими широкими юбками проносили контрабанду, и кофе, и сахар, и керосин. Таможенники сидели в маленьком деревянном домике. Иногда они тетю Мици пропускали, иногда затаскивали в маленький деревянный домик. Тетя Мици должна была нагнуться, а потом они, один за другим, по очереди ее трахали. Они трахали тетю Мици несмотря на то, что она была горбатой. Но у нее была очень белая кожа и большие белые сиськи. Поэтому она им нравилась, а про ее горб они говорили, что он принесет ей счастье. Некоторые из девушек родили детей. Мальчиков звали Джанфранко, Джорджо, Марьетто. Девочек звали Анабела, Клаудиа, Мария. Когда закончилась война, девушки стали через Красный Крест искать отцов своих детей. Если Красный Крест их находил, Марьетты получали лиры. Некоторые таможенники женились на мамах маленьких Марий и Клаудий, а потом, когда война закончилась, сбежали в Италию. Но бывало, что Красный Крест их находил и говорил: ого, синьор, у вас, оказывается, две жены, — и тогда таких таможенников сажали в тюрьму. Папа Марьетто сидел в тюрьме, а его мама мыла полы у нас в школе.
Тетя Мици дает мне два яйца. Я размешиваю сахар и желтки, она большой вилкой взбивает белки. Деревянной ложкой я мешаю, и мешаю, и мешаю сахар и желтки. Белковая пена такая густая, что можно перевернуть тарелку, а белок останется на ней. Тетя Мици дает белку соскользнуть в большую фарфоровую чашку. Он соскальзывает, я перемешиваю все вместе, ем большой деревянной ложкой, облизываю маленькие губы. Тетя Мици уходит к моему папе, возвращается и говорит: все в порядке, тебе ничего не будет, ты же ребенок, он обещал, вы помиритесь. Иду домой, шаг за шагом, уставившись в свои черные резиновые туфли. Мне сделал их дядя Берто, у него в мастерской, на стене, много голых женщин, с большими сиськами и в маленьких трусиках, они все смеются. У жены дяди Берто на затылке седой пучок, она приносит дяде Берто чай, кофе, куриный суп, чистые носовые платки. Дядя Берто сильно потеет, втыкает шило в резину, на резину с его лба падают капли, кап, кап, кап. Наш дом совсем близко, топ, топ, топ. Я иду совсем медленно. Уже темно, я вхожу в кухню, папа берет меня за маленькую руку, пойдем, говорит он. Мы поднимаемся по лестнице, впереди я, папа за мной. Лестница узкая, деревянная. Сейчас мы в моей комнате. Папа начинает меня раздевать, не спеша. Теперь я совсем голая. Он раздирает простыню. Я стою и смотрю. Дверь закрыта. Он привязывает меня к кровати. Я связана. Папа вытаскивает из брюк ремень. Он хлещет меня ремнем, ремнем с большой пряжкой. По спине, по ногам, по рукам, по шее, по голове. Лупит, лупит, лупит. Я визжу тоненьким голосом: спаситеме-няяяяяя, мамааааа, бубушкаааа… Бабушка на кухне. Наверняка она расплетает свой длинный, тонкий, седой мышиный хвост. Слышу, как она кричит: людиииии, помогитееее, айооооой, айоооой. Мама наверняка курит в уборной и шамкает ртом, чмок, чмок, смотрит на дым и машет рукой, чтобы дым выходил через окно, половинку сигареты прячет в карман фартука, на потом. Сука, сука, сука, кричит папа. Бабушкаааа, это кричу я, бабуляяя, это кричу я, бабуляяяя, это мой тонкий голос. Бабушка воет «айоооой», мама машет рукой, чтобы дым вышел через узкое окно. Айоооой, айооой, а я уже ничего не чувствую, не вижу, не слышу. Потом я очнулась, вся мокрая от холодной воды, я отвязана. Бабушка мажет меня оливковым маслом, оливковое масло темно-зеленого цвета, оно воняет.
А сейчас лето. Мне то ли двенадцать, то ли тринадцать лет. Я на набережной. Прыгаю от радости, я поймала лобана. У него толстые, большие губы, он долго крутился около наживки, шлепал губами, они умеют сожрать наживку так, что и не заметишь, как крючок уже голый, но я поймала лобана! Рыбаки сидят под шелковицей, смотрят на меня и смеются, что-то говорят папе, папа подходит ко мне: иди домой, оденься, корова, в этом году в лагерь не поедешь, корова! Оставляю лобана на набережной и несусь домой. Кричу! Кричу, кричу, кричу. Аааааааа. Мама сидит на кухне, в углу, молчит, смотрит в одну точку, которая нигде и везде. Мне надо надеть еще одну майкууууу, всхлипываю я, папа не хочет отпускать меня в лагееерь, потому что у меня уже видны сиськиииии, аааа, оооо! Я вся в слезах, мокрая, натягиваю еще одну майку. Я не поеду в лагеееерь, ааааа… Лагерь в Словении, мы ездим туда на поезде, наши мамы нам машут с перрона. Потом на автобусе до большого дворца, мы спим в больших комнатах с большими окнами, воздух пахнет очень хорошо, мы все тощие, мы все должны стать толще, да, толще, за три недели. Кормят нас пять раз в день. Как на убой, на малину и чернику уже смотреть не можем… Специально для нас пекут хлеб, большие буханки, с девочками-словенками, которые и крупнее, и сильнее нас, мы играем в пограничников. Мы путешествуем на автобусе по всей Словении, по вечерам танцуем возле лагерного костра, вообще не моемся, взвешивают нас раз в неделю, если кто из нас теряет килограмм, а это мой случай, его запирают в комнате, пусть посидит спокойно, пусть наберет жира. И я смотрю в большое окно. Старый словенец поставил транзистор на стог сена, играет музыка, он вычесывает корову, у которой на глазах сидят мухи. В ухе у него серьгааааа! Хочу в лагеееерь, ааааа! Не ори, говорит мне мама. Бабушки нет. На мне две майки, я натягиваю поверх них и третью. Сиськи теперь не видно, рыбаки не будут смеяться надо мной, они ничего не будут говорить папе, папа не подойдет ко мне и не скажет… Тыльной стороной руки вытираю сопливый нос.
В отеле на площади устраивают встречу Нового года. От нашего дома это не дальше пятидесяти метров. Прошу тебя, папа, ну прошу, пожалуйста, прошу тебя, ну пусти меня на встречу Нового года, ну я тебя очень прошу, ну пожалуйста. Папа молчит, сидит в углу кухни. Мама курит сигарету, «Фильтр 57», в уборной, чувствуется дым, но никто не обращает на это внимания. Бабушка говорит папе: пусти ее, все дети идут, пусти ее. Папа молчит в углу кухни, в плите горит огонь, вода в кастрюле уже горячая, кот лежит рядом с плитой и тихо пердит. По кухне разносится вонь, но никто не обращает на это внимания. Сладкий Виноград часто пердит, мы привыкли, никто даже и не спрашивает, чем это воняет, мы же знаем, что Сладкий Виноград постоянно пердит, рыбу он ест каждый день. А в полнолуние вообще поди знай, что он ел. Мама спускается из уборной. Ну я очень тебя прошу, пожалуйста, ну ради бога. Ну ради бога, что со мной там может случиться, ничего, я же не шлюха, чтобы со мной что-то случилось, там будут только наши, никого из чужих, все из нашего городка, ну прошу тебя, ну ради бога. Папа молчит. Пусти ее, говорит бабушка, это же рядом, в двух шагах. Мама молчит, она сидит рядом с плитой, причмокивает губами. Слышно, как кипит вода, жарко, кот мурлычет, да, очень жарко, папа сидит в углу и молчит. Прошу тебя, пожалуйста, это мой голос, Кети, ты же знаешь Кети, а у Кети такой строгий папа, и даже он сказал, иди, Кети, я не знаю, что еще сказать, да, он сказал ей, иди, Кети, иди, это же рядом, в двух шагах, что с тобой может случиться, Кети, моя девочка, вот так сказал Кети ее папа. Действительно, отпусти ее, говорит бабушка, ну какой смысл, ты что, не слышишь. Бабушка поднимает голос. Папа выходит из кухни в темную и мрачную холодную ночь.