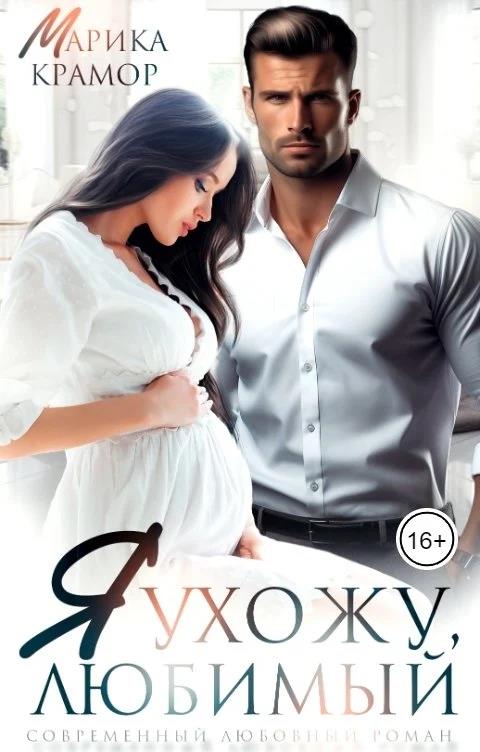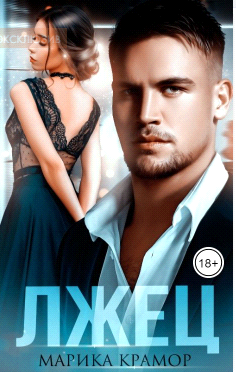я ненавидел свою фамилию. Ненавидел отца. Мне казалось, что он предал нас всех. Каждого в отдельности. Потому что в той, второй семье у него рос второй сын. Такой же, как и я, только с разницей в год. В год! Это жестко ударило по мне. Помню, как украдкой пробрался на кухню в четыре утра, сидел у распахнутого окна. На улице стена дождя, дальше носа ничего не видно. Расслабляющий запах озона в воздухе.
Как остро отпечаталось желание натянуть джинсы, свитер, забрать накопленные деньги и уйти куда глаза глядят. Почему-то было невероятно сложно смириться, что у отца есть другой сын. Отдельно от нас. И он к нему приезжает. Они вместе проводят время. Смеются. Радуются. В тот момент отец для меня умер. Тот отец, которого я любил всей душой, несмотря на строгость, жесткость и периодическую бесчеловечность.
До сих пор я воспринимаю его исключительно как приложение к маме, с которым приходится мириться: присутствовать, разговаривать, обсуждать. Я понимаю, отец многое мне дал. И да, я вроде как должен быть благодарен. Но ничего подобного не испытываю: все это с привкусом горечи.
Тогда отношение к отцу резко изменилось у всей семьи. Это как вынужденное сосуществование, с которым ты ничего не можешь поделать.
Как бы то ни было, но свинтить в рассвет я не смог. Гелена, еще зевая, вошла тогда на кухню, спросила, что я делаю. И тщетность собственных мыслей накатила, и осознание пришло, что я этим ничего не добьюсь и никому ничего не докажу.
Через два дня отец приехал и, несмотря на громкие проклятия и яростное сопротивление мамы, забрал нас троих домой. Она против него не выстояла, а дед не смог достучаться до зятя. Ни вразумить, ни ответить холодным отказом. Потому что мы принадлежали отцу. Единственная причина, по которой дед мог пренебречь решением зятя и защитить дочь — это рукоприкладство. Но на мою память отец ни разу на мать руку не поднял. А вот я частенько отхватывал: он дурость из меня ремнем выбивал. Мать стояла в стороне с мокрыми от слез умоляющими глазами. Но мне было все равно. С тех пор меня перестала трогать его жестокость. Отец для меня никто. Как дальний родственник, самочувствием которого я вскользь и очень редко могу интересоваться. Или деловой партнер, на переговорах с которым я вынужден присутствовать лично.
Свою вторую семью отец с тех давних пор и не скрывает. Не особо выпячивает, конечно, но и не прячет. От отца у Алины уже три ребенка. Младшей девочке — девять. Все это теперь мною воспринимается как данность в жестких границах, которые расставил отец. Свершившийся факт без необходимости участия.
Я расправляю плечи и опускаю ручку вниз, не желая тратить время, решительным шагом прохожу в кабинет и расслабленно занимаю свободный стул. Мы с отцом скрещиваемся взглядами, и, кажется, от нашего привычного противостояния даже стекла слегка дрогнули.
— Потому что я так сказал, — чеканит он в трубку, смело выдерживая мой молчаливый упрек. — А сейчас мне некогда. Да, смогу чуть позже.
Он отнимает телефон от лица, со стуком укладывая его на поверхность стола. Продолжает пилить меня недовольным взором.
— Зачем звал? — ускоряю я темпы наших «переговоров».
— Пару сделок через тебя надо оформить. Я пришлю своего человека в среду. После обеда. Встретишь, обсудите с ним.
«Через тебя» – это значит, что ему выпала возможность провести мимо кассы серьёзную сумму. И нужно прикрыть его задницу, подставив мою.
— Исключено, — спокойно возражаю я и облокачиваюсь на мягкую спинку стула. Темно-рыжая кожа. Удобно, мягко, но все равно вычурно и старомодно.
— Мне нужно, чтобы ты через себя пропустил. Там все лайтово. Тебе это тоже будет выгодно.
— Я сказал — нет. На свои счета бросай.
Противостояние характеров – вещь нешуточная. Никто не желает прогибаться.
— Встретишь моего человека, — продолжает настаивать отец. — Обговорите варианты, а там сам решишь. Безопасно. Тихо. Скромно. Процент с меня.
— Я уже ответил.
— Да все легально! — отец перестает сдерживаться. — Но именно с этой фирмой я не могу афишировать сотрудничество. У меня свои причины. А тебе можно.
— Кто бы сомневался.
— Так. Что там с твоей этой… Светлой?
— Ее зовут Зорина.
— Да мне плевать, как ее зовут. Опять брезгует к нам в дом приезжать?
— Неужто тебя это так задевает? Становишься сентиментальным, отец, — бесстрастно парирую я, но в душе начинаю закипать. Пренебрежение в сторону Зори для меня всегда как красная тряпка на быка. — Стареешь…
— А ты только и ждешь, когда я стану немощным и бессильным?
— Да мне наплевать, когда это случится, — возвращаю ему его же фразу.
Он едва заметно морщится, но на грубости внимание не акцентирует.
— А что, я в следующий раз ей в глаза мило улыбаться должен? За то, что она всегда нас стороной обходит?
— Улыбнешься. Не перетрудишься. Мне пора.
Поднимаюсь.
— Сидеть! — прилетает строгая команда. — Ты когда к невестам присматриваться начнешь?
— А ты когда к матери присматриваться начнешь, — уточняю я, разглядывая его снисходительно.
Он для меня, как раздражающий фактор. В его отсутствие всегда лучше, всегда спокойнее и приятнее.
— Ты в мои дела свой малолетний нос не суй. О тебе разговор.
— А я давал на него согласие?
— Акрам. В твоем возрасте любой уважающий себя мужчина должен иметь жену, которая будет ждать его дома.
— От тебя сейчас прямо пахнуло самоуважением. Тебе если так свадьба нужна, сам и дерзай. «Третью» себе возьми.
Грохот с силой опущенной на стол ладони сотрясает стены кабинета.
— Смотри, какой умный стал. А что ж ты так негативно настроен? Али боишься деву свою потерять?
— А тебе-то что?
— А то, что мой сын не станет размазнёй под женским каблуком! Что, в любовь захотелось поиграть? Ты