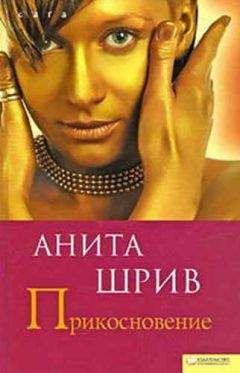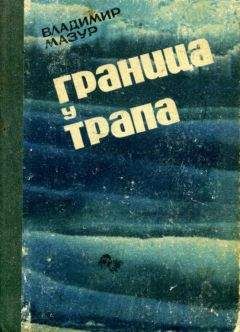— Ты недавно в городе? — спрашивает мать, попивая горячий шоколад. Линда держит кружку обеими руками, стараясь согреть их.
— Вроде того, — отвечает Линда, глядя вниз. Мало того, что па ней свитер, под которым отчетливо выступают соски, сейчас напряженные от пробравшего ее до костей холода (вот глупая Эйлин!), — у этого свитера еще и очень глубокий вырез, и виден ее крест.
— А в каком районе ты живешь? — интересуется мать, не особенно утруждая себя любезностями.
— Парк-стрит, — говорит Линда, ставя чашку на стол и складывая руки на груди. Рядом с ней Томас разминает пальцы, пытаясь разогнать кровь. К горячему шоколаду он не прикоснулся. Ее джинсовая юбка слишком короткая и слишком тесная в бедрах. Линда подавляет желание одернуть ее.
— Это в?.. — спрашивает мать.
— Рокэвэй, — уточняет Линда.
— Вот как. — Мать Томаса даже не пытается скрыть скептицизм.
— Сильная буря, — отмечает отец Томаса, сидящий рядом с ними.
— Я покажу Линде дом, — говорит Томас, вставая. И Линда думает, как замечательно иметь дом, который можно показать.
Они поднимаются по лестнице в комнату Томаса, заходят за дверь и целуются. Томас поднимает ее свитер и кладет холодные руки на ее груди. Потом задирает юбку ей на бедра. Она встает на цыпочки, прижимаясь к стене. Она слышит кого-то из родителей внизу лестницы и уверена, что он или она сейчас поднимется и зайдет в комнату. Чувство риска, или возбуждение, или паника неожиданно вызывают в памяти сцену: мужчина задирает ей платье.
— Не могу, — шепчет она, отталкивая Томаса.
Томас неохотно отпускает ее. Она поправляет юбку и свитер. Они слышат шаги на лестнице, и Томас ногой захлопывает дверь.
— Что такое?
Она садится на кровать, пытаясь выбросить из головы ту сцену, рассматривает обстановку комнаты: деревянный письменный стол, кипы бумаги, разбросанные по столу ручки. В углу валяются смятые брюки и белая рубашка к выходному костюму. Белые шторы образуют в окне ромб и кажутся слишком красивыми для комнаты молодого парня.
— О Боже, — тихо говорит она и закрывает лицо руками.
— Линда, в чем дело? — спрашивает встревоженный ее голосом Томас, присаживаясь на корточки перед ней.
Она качает головой.
— Это? — спрашивает он, явно озадаченный. — Это? — спрашивает он, указывая на стену.
Мимо комнаты снова слышатся шаги.
В зеркале над комодом она видит их обоих: Томас сидит теперь на кровати, волосы наскоро приглажены пальцами, спина сутулится. Она стоит перед книжным шкафом, сложив руки на груди, вокруг глаз — розовые круги от холода, волосы примяты от шапки.
На письменном столе рядом с книжным шкафом — исписанные листы. Она приглядывается повнимательнее.
— Ты что, пишешь стихи? — интересуется она.
Томас с отсутствующим видом смотрит на стол, потом встает, сообразив, что оставил свою работу на виду. Он идет к столу и берет листы.
— Ты можешь мне это прочесть? — просит она.
— Нет.
— Ты уверен?
Он перебирает листы в руке.
— Уверен.
— Дай взглянуть.
Он дает ей первую страницу.
— Это только наброски.
Она поворачивает страницу и читает. Это стихотворение о прыжке с пирса, о девушке, плывущей в своей комбинации. О движущихся на заднем плане огнях и насмешках парней. Она читает все стихотворение и перечитывает его еще раз.
— Шелк воды, — говорит она. — Вода похожа на шелк.
Они спускаются вниз. Ситуация тут напряженная: холодная мать, отец, получивший разнос от жены. Отец потихоньку удаляется в комнату, откуда доносится звук работающего телевизора; мать, женщина, у которой есть чувство долга, вызывает такси с цепями на колесах. Линда надевает свои сапоги и стоит вместе с Томасом в прихожей; у нее такое ощущение, будто ее выгнали.
— В вещмешке — наркотики, — сообщает он ей.
На следующий день в машине, стоящей за коттеджем, Томас опускает с плеча Линды блузку и жакет и целует костистый выступ ключицы.
— Мне больше всего нравится в тебе это место, — говорит он.
— Да? Почему?
Если учесть, с какими местами ее тела он познакомился за последнее время, это кажется несколько странным.
— В этом ты, — объясняет он. — В этом вся ты.
— Это случайно не название песни?
На них солнцезащитные очки. А за ними весь мир так и сверкает. По пути к пляжному коттеджу они проехали «великанские горки», церковь Святой Анны и кафе, и все это закованное в лед. Солнечный свет создает на стенах блеск, слишком яркий для незащищенных глаз; кажется, что ветви деревьев попали сюда прямо из рая.
— Другой рай, не такой, как мы себе представляли, — говорит она.
— Что?
— Это страна чудес! — произносит она с восхищением.
Томасу, как и большинству других владельцев машин в городе, наконец пришлось поставить на шины цепи. Впереди еще февраль и март, и кто знает, какие неожиданные бури может преподнести апрель?
— Они обошлись мне в двадцать баксов, — сообщил он Линде. — Но оно того стоит. Иначе я не смог бы тебя забрать.
Он целует ее. Хотя они остановились на своем обычном месте (отчаянный шаг!), Томас утверждает, что коп не начнет объезд так рано.
— Зачем ты это делаешь? — спрашивает Линда.
Он прекрасно знает, что она имеет в виду.
— Донни Т. попросил меня.
Это не очень убедительная причина, — возражает она, наклоняясь и включая приемник. Занятий сегодня не было, но у Томаса все утро ушло на то, чтобы отбуксировать машину. Линда делает глубокий вдох. Ей все время не хватает его, этого запаха гренков. Он кажется ей сущностью человеческого тепла.
— Вчера вечером, у тебя дома, — спрашивает она, — это был провал?
— Да все было нормально, — отвечает он.
— Нет, — говорит Линда. — Я ей очень не понравилась.
— Она слишком обо мне заботится.
Линда закрывает лицо руками.
— Не могу простить себе, что надела этот свитер без лифчика.
— Мне понравилось, — успокаивает ее Томас. Он прикасается к ее груди и останавливается, словно животное, ждущее сигнала приблизиться.
— Все в порядке, — говорит она.
— Что бы это ни было, ты должна кому-то рассказать.
— Я рассказала бы тебе, если бы могла. — Она задумывается на минуту. — Я рассказала бы Богу, если бы могла.
— Разве не должен Бог в любом случае видеть и знать все?
— Так положено. Нужно рассказать Ему, что ты сделал.
— Это нелогично.
— Нуда, конечно, — соглашается она.
— Не хочу быть навязчивым, — произносит Томас через несколько минут, — но ты действительно думаешь, что Бога это волнует?