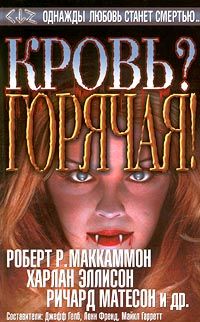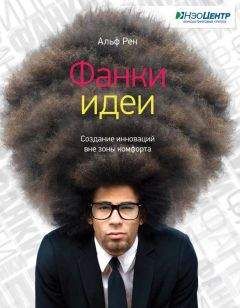— Давай, метелка, шустри! Мне некогда!
— И пошел без оглядки, вроде я обязана убирать за всяким говном! Он кроме себя никого за человека не считает.
— Сунула б ему стольник в рыло! — возмутился Колька.
— Пока до меня дошло, что надо сделать, он уже уехал! — пожаловалась баба.
— Жаль, что меня там не было! Проучил бы козла! — досадовал мужик.
— Теперь никто за себя не может поручиться. Или посадят, или убьют! В городе за месяц троих людей средь бела дня уложили. За что про что никто не знает. Может, оно и лучше не дышать в начальстве, дышать тихо и незаметно. Оттого лишь могил на погосте новых не появится.
— Я каждый день звоню насчет работы, да все не везет! — признался Колька.
— А сколько я себе работу искала, если б ты знал! Хотя и на зоне не отбывала!
— Тебе с чего отказывали?
— Я ж по статье уволена. А потом лечилась. Как только скажу причину перерыва в работе, там мигом трубку бросают. Не только говорить, слушать не хотят. Ну и ладно, устроились, голодными не сидим, живем не хуже других,— успокаивала Катька себя и Кольку.
— Да я вобщем и не жалуюсь. Поначалу тяжко было, теперь привык и уже не задыхаюсь, не тошнит.
— А знаешь, я тоже хотела в платный туалет устроиться. Но меня не взяли,— призналась Катька.
— Почему? — округлились глаза мужика невольно.
— Желающих было много, хозяева выбирали, копались. А теперь и тебе рады.
— Чем же я хуже других? — не понял человек.
— С судимостью взяли. Еще два года назад о том и не помечтать было б!
— Работать в отхожке?
— Зато какие условия! Тогда с работой в городе тяжко было. Многие обанкротились, разорились, людей пачками выкидывали на улицу. Цены на продукты улетные и каждый день росли. Короче, сколько тогда поумирало, не счесть. Одни от голодухи, другие сами на себя руки наложили, иных отстреляли. Что творилось, вечером страшно было из дома выйти. Бандитов и воров развелось больше, чем бродячих собак. Ты на зоне был. Ну, а мы даже на балкон выходить боялись. Попробуй, оденься поприличнее, в подъезде догола все сорвут. Кольца с пальцами у бабья обрывали. Сережки сдирали, разрывая мочки ушей. Цепочки на ходу снимали. Кто хай открывал, тому хана, нож или шило в бок и ступай жалуйся куда хочешь. В магазин за хлебом пойти боялись. А сколько развелось всяких аферистов, кидал, наперсточников, цыган! От них дышать было нечем. Ну, взялись за них! Кого посадили, других выгнали из города. Теперь уж полегче стало. Я по кладбищу спокойно хожу, не дергаясь и не прячась, как раньше. По первому году с центральной аллеи не сворачивала. И как решишься?
— Неужели и на тебя кидались? — рассмеялся Колька.
— Чего скалишься? Чем я хуже других баб? Вон до меня работала, старуха вовсе! Песок из задницы сыпался. А и ее завалили прямо рядом с могилой два мужика. Бабка хоть и боялась орать на погосте, а тут такой хай подняла! Ну и что? Никто не решился подойти, выручить старую, так вот и надругались над нею. Милиция и ответила:
— Бабка! Ты живая! Никакого урона здоровью нет! Мужики тебе молодость напомнили, радоваться должна! Как мы будем искать, если ты их не запомнила и описать не можешь? Не увидела в чем одеты, куда убежали.
— Бабка плакала, все спрашивала:
— А ежли над вашими матерями глумиться начнут, что делать будете, окаянные?
— Ну, пошла к ихнему начальнику, тот искать заставил и нашли. А они на очной ставке сказали:
— В другой раз встретим, тут же уроем облезлую кикимору. Не только пожаловаться, бзднуть не успеешь. Бабка на другой день уволилась из смотрителей и больше на кладбище ни ногой.
— Теперь ты ждешь, когда на тебя налетят мужики? Зря, Оглобля! Нынче мужики дарма не насилуют, только за большие бабки. Я про то даже на зоне слыхал. А бабке померещилось. Нынче молодых полно, сами на шею виснут. Кому нужна старая кадушка? — не верил Колька и спросил:
— Иль на тебя соблазнялись?
— Нет, брехать не стану, такого за все время ни разу не было. Когда хоронят, иль на Радуницу, зовут помянуть покойных. Я отказываюсь пить, говорю, что на работе, потому нельзя. А еще на высокое давление жалуюсь, на аллергию, ну, люди отстают. Так вот отучила, больше выпивку не предлагают. Но пакостей никаких не говорят. А и мне не до разговоров. Пока на кладбище приберусь, уже конец дня, домой спешу. Сам знаешь, тоже дел полно.
— И рад бы тебе помочь, но не получится. Сам до конца дня в говне по уши сижу. Как только базар закрывают, я начинаю туалеты мыть. Раньше только полы да кабинки мыл, теперь хозяйка потребовала, чтоб и стены, и раковины, и зеркала чистил. Вот размахнулась, чмо! А попробуй, поартачься, на дверь покажет. Я бы с радостью от нее слинял, да некуда. И она догадывается. Все грузит на мой горб. Но деваться некуда, терплю. Сама знаешь, три месяца отпахал. Меня уже весь город вспомнил. Директор рынка обещает к Дню города грамотой наградить! Как лучшего говночиста базара! Я ему и ответил, чтоб он свое большое спасибо, вместе с грамотой, себе оставил, а мне премию сообразил! Рассмеялся, сообразительным назвал. А вот о премии молчок. Ничего, напомню, я не гордый!
— Может, и мне своим сказать про премию, сами не вспомнят, не догадаются. А ведь на двух участках и на погосте убираю. Недавно нас проверяли. Иных ругали. Двоих даже уволить собираются. Мне ни одного замечания не сделали,— похвалилась Катька.
— Эх-х, Оглобля! Да разве это важно? Те замечания продышать можно. А вот я сегодня в сортире знаешь, кого встретил? Самого Остапа! Он не только в одной зоне, в одном бараке со мной «ходку» отбывал. Главным был. Бугром всех зэков. Сколько крови испортил мне. И вламывал ни за что! А попробуй, подними на него хвост! Все мужики за него горой встанут. Даже администрация к нему не лезла. Уж и не знаю, за что именно, но на зоне он ходил в авторитете.
— Теперь вышел? — спросила Катька.
— Ну да! На воле! И вот ведь смех, там у него полно кентов имелось. А теперь никого! Один сам мне раскололся. На воле у него много было должников. Вот только мало кого сыскал нынче. Да и те пустые, как барабан, в прорухе. Другие в ходках, иные на тот свет слиняли, не вернув долги. Остапу, хоть задавись, в кармане ни шиша, сам без угла, голодный как собака.
— К тебе клеился? — округлились глаза бабы.
— Этот не попросится. Я для него западло. Он бывший фартовый, только со своими законниками кентуется, я для него гнида. Остап поделился бедами. Этот из прорухи вырвется. Такие долго не бедствуют. Выход найдет. Я о другом подумал. Ведь на зоне он гонорился. А вышел на волю и никому не нужен. Негде дух перевести, никто его не принял. И нет у него своей семьи. В бараке базарил, что у него бабья как грязи. Но... Все за деньги. Это разве бабы! Кто его ждал, кому он сдался, кто ему откроет дверь и душу? Кто даст хлеба бездомному? Я, может, дал бы, не знай его! Но ведь он много раз хотел убить меня! Чтоб не вернулся я домой, к тебе и к сыну. А кто у меня есть, кроме вас? Он и это хотел отнять. Он богатый, остался нищим, а я— счастливый человек! Меня ждали!