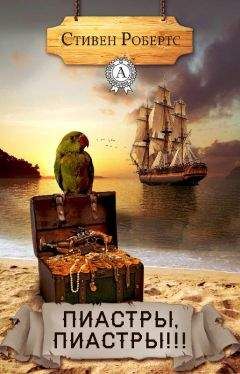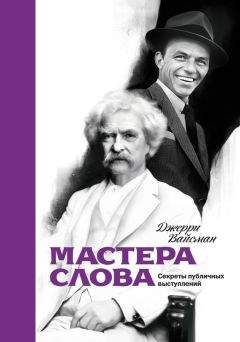"Ей в больницу надо, Виталичек! Вдруг сотрясение!" — плаксиво сказала Эмма Борисовна: синяк на ее щеке окончательно оформился. Кабанович прикрыл глаза, словно от адской боли, и стал еще больше похож на античного юношу. "Гений, попирающий грубую силу"…
Эмма накручивала телефонный диск — всего дважды, значит, в «Скорую».
"Тяжкие телесные", — тихо прорычал возлюбленный, и Эмма Борисовна испуганной птичкой тюкнула трубку на рычаг. Мне совершенно не к месту стало смешно, и на волне этого смеха я снова пыталась подняться. Добряга Эмма поддерживала меня за локоток.
"Мы расстаемся не навсегда!" — крикнул Кабанович, когда я закрывала за собой черную, обитую дерматином дверь: его крик угодил прямо в висок, словно еще один удар. Меня стошнило на площадке, у лифта — перешагнув через зловонную лужицу, я долго не могла прижать прямоугольник кнопки вызова: слишком дрожали руки.
К вечеру начался град, сначала — настоящий, из ледяных шариков, метко стрелявших с небес, а потом телефонный: Эмма устроила ковровую бомбардировку, звонила каждый час, моля «одуматься». Из бесконечных рассказов восставала первопричина ярости, бросившей Кабановича в атаку на беззащитный музыкальный инструмент, родную мать и любимую, как мне раньше казалось, девушку.
…Пока я получала синий диплом, в дом Кабановичей нагрянул бывший Эммин ученик Сережа Васильев. Лет двадцать назад Эмма преподавала ему сольфеджио и специальность — так что Васильев был вдвойне признателен любимой учительнице. Он до сих пор производил впечатление на женщин как чистотой пения в караоке, так и беглой фортепьянной пробежкой. Не говоря уже о том, восклицала Эмма, что Сережа все еще помнит, куда разрешается доминантсептаккорд. Помню ли я, куда разрешается доминантсептаккорд? Я мотала головой, а Эмма непринужденно вздыхала: он разрешается в тонику, Глашенька, и ведь Васильев это помнит!
Эмма Борисовна захлебывалась воспоминаниями о Сережином детстве. Каким он был тонким, нежным мальчиком! В памяти Эммы нашлось место и картонной папке с типографской лирой, в которой Васильев носил нотные тетради, и стопке сонат, что лежали на стульчике, чтобы мальчик мог дотянуться до клавиш, и слишком громкой левой руке, и пальцы, Глаша, он все время путал пальцы!
Пальцы взрослого Васильева были препоясаны золотыми перстнями, робкие глазки приобрели мохнатый взгляд. Никто не узнал бы в этом гражданине некогда щуплого мальчика, но щуплый мальчик все еще жил в Сереже и уговорил бизнесмена явиться в гости к любимой учительнице — без приглашения, зато с громадной коробкой конфет под мышкой.
Это явление пробудило в моем возлюбленном целый сель чувств, и они хлестали беспощадно, наподобие тропического ливня. Кабанович не любил людей в принципе, а уж людей, что достигли успеха и врываются к нему в дом с конфетами, он, как выяснилось, от всего сердца ненавидел. Вот почему Кабанович совершенно не обрадовался визиту Васильева, а с обратной точностью пришел в бешенство и выпил бутылку водки «Столичная», припасенную Эммой к Рождеству. Пил он в кухне, пил быстро, и с каждым глотком бесился все больше, словно вливал в себя не крепкоалкогольный напиток, а концентрированный раствор ярости.
Тем временем Сережа в четыре руки с Эммой исполнял каватину Феррандо: «Мюльбах» отзывчиво дрожал регистрами, и даже выпавшая «ре» в третьей октаве вернулась на свое место. Сережа так разошелся, что после каватины сольно исполнил сонатину Кулау: печатка с моховым агатом громко стучала по клавишам, придавая произведению ритмический акцент.
Эмма Борисовна ела конфеты и слушала прекрасного Сережу, в кухне Кабанович наливался злобой. К счастью для самого себя, Васильев не дождался кипения (не хватило жалких секунд, пока у Кабановича не сорвало крышку и взгретая алкоголем злоба не охватила семейное гнездо со скоростью лесного пожара). Сережа решительно поставил на стол чашку, на дне которой подсыхали бурые чаинки, чмокнул учительницу в теплую, морщинистую щеку и сбежал вниз по лесенкам, насвистывая сонатину. Элегантно всунувшись в блестящую капсулу заморского автомобиля, Сережа выехал из двора — и его эффектный отъезд стал сигналом к началу военных действий для Кабановича, мрачно курившего у кухонного окна.
Эмма как раз собралась угостить сына Сережиными конфетами. Кабанович столкнулся с матерью в дверях и со всего маху заехал кулаком по лицу: открытая коробка, где в золоченых впадинках темнели сласти, упала под ноги Кабановичу — он несколько раз пнул злосчастный картон, так что конфеты раскатились по комнате. Прикрываясь руками, Эмма не думала оправдываться, ведь Виталику в самом деле неприятно, когда домой приходят чужие люди. Правда, это был не чужой человек, это же Васильев Сережа…
Кабанович кричал, чтобы мать не смела издеваться над ним, устраивая балаган с песнями и плясками, разве ей не известно, как дико сын устает на работе? Разве он, кормилец и одевалец родной семьи, не имеет права провести вечер в тишине, под неназойливые звуки телевизионной викторины?
Эмма соглашалась с каждым словом сына, но он никак не мог насытить свою злобу и потому принялся истязать несчастный «Мюльбах», еще не остывший после Верди и Кулау. А финальным аккордом стало мое появление.
"Знаешь, Глашенька, — доверительно сказала Эмма (голос ее дребезжал, как фарфор в трясущихся руках), — я исключительно жалею инструмент, но лучше бы он вырвал все клавиши, чем поднял руку на тебя". Впрочем, уже через миг Эмма вновь начала уговоры не бросать бедного мальчика, "ведь он так сильно тебя любит!".
Наступление велось по всем фронтам: Эмма не слезала с телефона, а Кабанович являлся ко мне с темнотой, как привидение, и дарил букеты, походившие на хвосты цирковых лошадей. Он падал на колени и стучал головой о стены так, что мама пугалась и выбегала из кухни. Он закусывал губы и сплевывал в ладонь кровавую слюну, обещал, что больше никогда… Ни за что…
Я видела нелепость этих сцен, и верить им было невозможно. Меня примерно так же раздражала николаевская версия "Il Trovatore", где пожилая, обтрепанная, будто библиотечный фолиант, Леонора тянула руки к Манрико обрюзгшему дедушке и сладкоголосому трубадуру: "Tacea la notte placida e bella in ciel sereno…". Что было у них общего, кроме старости, как могли эти развалившиеся люди умирать во имя любви? Эмма спорила со мной в антрактах: оперное искусство условно, следует оценивать не тело, а голос.
…Я слушала фальшивые ноты Кабановича и не могла прогнать его, как не смела выкинуть ужасные букеты, как не бросала трубку, где дребезжал голос Эммы…
Исчерпавшись, Кабанович решился на крайнюю меру — неловко примостившись на одно колено, он попросил меня стать его женой, и я с ужасом услышала «да», произнесенное собственным голосом.