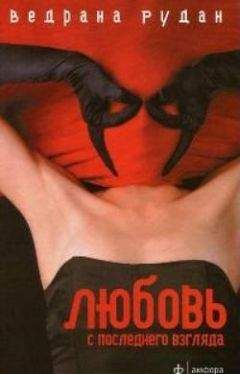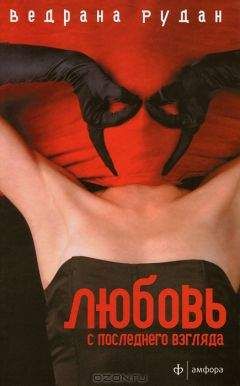У них есть кот, его зовут Петар Крешимир, в честь какого-то хорватского короля. Я им сказала:
— Почему бы вам не назвать его Иван Горан Ковачич? Он наш великий поэт, погиб от ножа четника, он был хорватом, вам же так важно, чтобы все были хорватами, но есть хорваты и хорваты, «Яму» Ковачича перевели на свой язык даже японцы и китайцы, а о Петаре Крешимире никто и слыхом не слыхал.
Без толку.
Этот кот нервирует меня не только своим именем. Они постоянно таскают его к доктору, он тощий, похож на восклицательный знак, я его называю Шило.
Я им сказала:
— У него глисты, завезите его куда-нибудь подальше и оставьте, вы слишком много на него тратите, по двести динаров за каждый осмотр, он столько жрет, а такой тощий, лучше бы вы на те деньги, которые отдаете ветеринару, купили мне нитроглицерин в спрее, в Австрию часто кто-нибудь ездит…
— Бабуля, — сказала мне внучка, — неужели ты приревновала нас к Петару Крешимиру? Ты тотально впала в детство.
Я промолчала. Мы живем в мире, которым правят домашние животные. У малышки Кики, она внучка товарища Иосипа, был кот Томислав. Когда он издох, ему было пятнадцать лет, они все плакали так, как будто умер товарищ Тито.
— Товарищ Нада, — сказал мне товарищ Иосип, — у меня от покойного Томислава только и осталось, что этот кусочек хвоста. — И показал мне кусочек хвоста покойного Томислава.
— Это гадко, — сказала я, — отрезать у мертвого кота кончик хвоста и сделать из него брелок для ключей, какая же это любовь. А как же ты примиришься с собственной смертью, если не можешь примириться со смертью кота? Товарищ Иосип, мы не должны позволять себе такие сильные привязанности, ведь мы тоже скоро уйдем. А смерть любимых кошек причиняет нам большие страдания.
— Я вовсе не считаю, что скоро уйду, — сказал мне товарищ Иосип, — я каждый день читаю в газетах некрологи, покойники все моложе и моложе. Товарищ Нада, наших ровесников в некрологах нет.
— Товарищ Иосип, — сказала я, — наших ровесников там нет потому, что они уже давно умерли, или потому, что у них дети жмоты. Очень некрасиво, что ты отрезал у покойного Томислава кусочек хвоста, несчастное животное.
Впрочем, если задуматься, не так уж и плохо иметь кого-то, чью частичку хочешь сохранить и после его смерти. Может быть, такое нежелание примириться со смертью и есть любовь. Если бы меня спросили, от кого из своих родственников я бы хотела отрезать кусочек и держать в косметичке рядом с лекарствами… Если бы существовал такой опрос, а нас теперь опрашивают постоянно и на все темы, так вот, если бы меня спросили: простите, чей кусочек хвоста… прядь волос… Я бы выкрутилась: «Детка, — опросы обычно проводят молоденькие девушки, — я не могу себе и представить смерть кого-нибудь из моих самых близких. Вам-то я скажу, вы это поймете, потому что вся ваша история — это сплошные убийства, прядь волос с голов моих близких я бы охотнее выдрала, а не срезала.
Так на чем я остановилась?
В холодильнике у нас вечно пусто, там только полуоткрытые консервные банки с кошачьей едой, их вытаскивают за полчаса перед тем, как поставить Шилу под нос, выдерживают при комнатной температуре, следят, чтобы он не переохладил кишечник и не простудил глистов, которые у него там блаженствуют. Когда началась война, мой зять пошел записываться в добровольцы. С какой стати?
Дочь мне сказала:
— Давай продадим дом, снимем квартиру и оплатим мальчишке учебу в американском университете в Вене, там учится сын Каддафи, мальчик с ним познакомится, а когда получит диплом, найдет через него хорошую работу в Ливии, мы все от этого только выиграем.
До сих пор не знаю, действительно ли так оно и было, насчет сына Каддафи, или же она меня просто подловила на моей любви к Тито и Движению неприсоединения. Дети очень изобретательны, когда хотят выудить у родителей деньги. Каддафи мне всегда нравился, а раз его одобрял Тито, то одобряла и я. Тито был великим человеком, об этом сейчас как-то забыли. Когда они мне сказали, что Петар Крешимир был великим, я им сказала:
— Более великим, чем Тито?
Внук мне ответил:
— О’кей, бабуля, назовем нашего кота Тито.
Моя дочь думает, то есть я думаю, что моя дочь думает, что я ее как-то по-своему, своеобразно, люблю, и ее, и ее детей, и что просто я всегда в плохом настроении из-за того, что меня мучает остеопороз. Никакой остеопороз меня не мучает. Вот скажите, скажите вы мне, чего бы мне любить их по-своему, своеобразно, и быть в плохом настроении из-за остеопороза, которого у меня вообще нет? Нет, я их не люблю, никак, даже своеобразно. Они меня ограбили, сделали несчастной, я об этом молчу и на каждом углу трещу насчет птичьего молока. Это самое большее, что я могу сделать для этих свиней. Надеюсь, все, что я говорю, останется между нами и мой внук не соврал, когда сказал, что положит кассету в специальную коробку, которая автоматически закрывается. Я ему кассету — он мне пятьдесят евро. Уверена, он даст мне двадцать евро и скажет, что без него я бы и этого не получила за такую работу. Для меня двадцать евро — большие деньги, хотя совсем скоро… Они продали мой дом. Через два или три года я услышала, случайно, конечно, они никогда не разговаривают, когда я поблизости… Сын Каддафи и не думал учиться в Вене! Нелегко мне было, когда я это услышала. Все, что получила моя мать, жертва фашистского террора, я отдала своему ребенку и стала нищей.
Товарищ Пилепич мне сказал, я ему позвонила, когда умерла товарищ Бранка:
— Товарищ Нада, кто еще обманет, как не свой.
Сын Пилепича продал его большой дом, а ему купил мансарду.
(Если вы читаете внимательно, то можете подумать, что я не в своем уме, я недавно сказала, что у товарища Пилепича большой дом, а теперь говорю, что дом продали. Дело в том, что в моей жизни есть два товарища Пилепича, я могла бы изменить фамилию одного из них, чтобы не путать людей и чтобы они не считали, что я в маразме и что мне нельзя верить, но я умышленно не стала менять фамилию ни у одного из Пилепичей. Я слишком стара, чтобы угодничать перед американцами, обманываю я только соотечественников.)
— Главное, чтобы ему было хорошо, — сказал товарищ Пилепич, — мне почти ничего не нужно, Павица моя умерла, о ком мне теперь заботиться, кроме детей и внуков.
Товарищ Пилепич пиздит, лучше бы он рассказал, каково ему жить под самой крышей, на шестом этаже без лифта, летом в наших краях очень жарко, зимой все время дует ледяной ветер. Всем нам, дедушкам и бабушкам, живется так потому, что мы никогда не разговариваем друг с другом откровенно. Если бы мы выбросили из наших разговоров птичье молоко, если бы мы поговорили о боли, которую чувствуем, когда наши состарившиеся дети ломают нам оставшиеся несъеденными остеопорозом кости, все было бы по-другому. Но кому это скажешь? Как откровенно говорить с лживым, патетичным, насмерть перепуганным говнюком, это я имею в виду того, второго Пилепича.