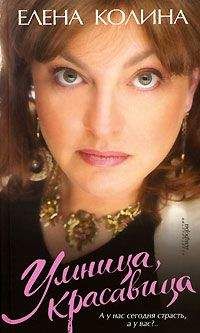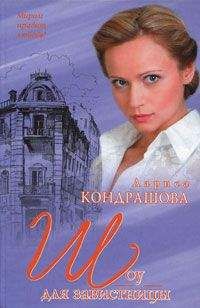– Но, Сонечка, все это не имеет значения. Если тебе так будет легче…
– Не будет легче, мне не будет легче, не будет… Это еще хуже, как ты не понимаешь… Нельзя ничем жертвовать, нельзя…
Он опять не понимал, а она не могла объяснить. Не нужно истошно биться головой в ворота рая, иначе окажется, что за райскими воротами НЕ рай, а что-то совсем другое… Поломанная карьера, зависимое положение в питерской клинике, унизительные условия и иные деньги – это была бы жертва, а Соня боялась жертв. Принесенные жертвы потихоньку рождают нелюбовь к тому, ради кого их приносят, – она уже и сама ловила себя на всплесках недоброжелательности по отношению к нему, на дурацкой мыслишке: стоил ли Эрмитаж.. в общем, стоил ли Париж обедни… Но она могла справиться с собой, а он сможет? Почему-то Соня была уверена, что ЕГО жертвы их любовь не вынесет, и тогда все окажется напрасным, все…
– И как же все будет? – устало спрашивал Князев.
– Вот возьму и умру, – пугала Соня и тут же улыбалась: – Не сердись, прости меня за безвкусную шутку… Как-нибудь будет… Я тебя совсем извела, прости…
Князев прощал, нежно говорил: «Сонечка, любимая», Соня кидалась к нему, любовалась, таяла – вот же руки, плечи… и они опять очень сильно любили друг друга. Вот только все, что было между ними, между хирургом Князевым и его Сонечкой, страсть, нежность, невозможность друг без друга, все безысходней тонуло в душной тупой усталости, понимании-непонимании, объяснениях и обещаниях, все теснее собиралось в рыхлый несуразный ком. И ком этот взял и без особенного усилия тронулся в путь, и легко катился, по дороге вбирая в себя все – страсть, нежность, невозможность друг без друга…
У Анны с Вронским все было медленно, долго – любовь, внезапное непонимание, охлаждение, вспышки страсти… Ничего с тех пор не переменилось, лишь одно быстрее сменяет другое…
…Кстати, а почему Головин не мог бы принять чужого ребенка? Каренин же принял. Ну… Каренин слабый, а Алексей Юрьевич сильный. Еще почему? Да ни почему. Предполагать, пусть даже теоретически, что Головин может принять чужого ребенка, нелепо – все равно что банковский автомат оближет новорожденного котенка… Алексей Юрьевич Головин и своего-то ребенка не принял.
ЕВРЕЙСКИЙ ПАПА
На Таврической творилось что-то невообразимое… Прихожая больше не выглядела вылощенной, безлико нарядной. В одном углу стояли лыжи, в другом углу стояли лыжи, посреди на идеально чистом паркете лежал огромный красный рюкзак, своей идеально ровной формой сообщая, что собран искусными и умелыми руками. К рюкзаку так же идеально ровно была примотана палатка, четырехместная… Теперь прихожая Алексея Юрьевича, за исключением стерильной чистоты, напоминала квартиру Диккенса на Фонтанке.
Головин отправлял Антошу в поход – в Хибины.
Антоша, уже полностью одетый, в ярко-синем комбинезоне и шерстяной шапке-шлеме, стоял в прихожей, опасливо поглядывал на рюкзак. Валентина Даниловна, бессильно прислонившись к зеркалу, плакала, будто Антошу отправляют на войну. Вокруг рюкзака, погавкивая, жизнерадостно вился Мурзик, рассчитывал, что его возьмут в поход.
Алексей Юрьевич, оживленный, возбужденный, счастливый, почти как Мурзик, приматывал к Антоше рюкзак. Примотал, отошел в сторону, посмотрел почти нежно и почти гордо. Если бы Головину сказали, что он впервые за долгие годы смотрел на своего сына с почти что нежностью и почти что гордостью, он смутился бы. И возразил, что с гордостью он смотрит на идеально собранный огромный красный рюкзак, а с нежностью на очень хорошую непромокаемую палатку, а вовсе не на Антошу. Но какая, в сущности, разница – рюкзак ли, палатка ли, бутылки с сахаром, – в любом случае часть его нового взгляда досталась Антоше.
Рядом с большим рюкзаком стоял еще один рюкзак, поменьше, – с двенадцатью килограммами сахарного песка для всей группы. Вчера Алексей Юрьевич с Антошей купили восемь бутылок кока-колы, вылили колу в перламутровый унитаз, тщательно просушили пустые бутылки феном и засыпали в них сахар. Алексей Юрьевич был уверен, что покупает, выливает, высушивает и засыпает – для Антоши, а Антоша – что для Алексея Юрьевича…
Сначала единственным чувством, которое испытывал Головин, по вине Сони оставшийся с сыном один, была неловкость. Алексей Юрьевич не понимал решения мальчика остаться с ним, а если он чего-то не понимал, то не мог одобрять, а уж тем более испытывать благодарность. Неловкость происходила и оттого, что, расставшись с Соней, он уже мысленно расстался и с сыном. К тому же прежде он никогда не бывал с Антошей один – Соня, мамки-няньки… Валентина Даниловна, переехавшая к ним в качестве мамки-няньки вместе с вороватым Мурзиком, отчего-то в расчет не принималась. Головин так и формулировал для себя – они с Антошей ОСТАЛИСЬ ОДНИ.
Бывшая жена лежала в больнице, и Головин пытался найти хоть какой-то приличный выход из неприличного, невозможного, позорного положения. И нашел, вот какой – сущность вещей сама образует решение, когда придет время. Пока что он пытался исполнять свой долг. Не мстить. Не выгонять бывшую жену. Не шантажировать ее ребенком. Не подавать на развод, пока она находится в больнице. Исправно платить за больницу, пока она формально считается его женой. Алексей Юрьевич понимал, конечно, что конкретная ситуация и не оставляла ему ничего, кроме безупречности, он НЕ МОГ вести себя иначе. Откуда же ее было выгонять, из отделения акушерства и гинекологии?.. И КОГО шантажировать ребенком – беременную женщину? Фу!.. Так что по всему выходило, что его теперешняя ситуация была как раз такого рода, когда само отсутствие решения и есть решение. Для человека, который считал залогом успеха тщательно составленный план действий, это положение вещей было неестественно, непривычно, но – вот так… Вести себя достойно, а наградой за достойное поведение станет душевное равновесие.
Вот только одно… Когда Головин думал об этом, он, как собака, потряхивал головой, таким болезненным было воспоминание…
«Девочка, как мы назовем нашу девочку, какая она будет, наша девочка?» – спрашивал его Антоша. И что же отвечать на эту бестолковую невинность, и вообще – ПОЧЕМУ ОН? Это несправедливо! Пусть ОНА объясняет! Откуда ему знать, что вообще этот ребенок знает о вопросах секса?!.
Головин не отзывался на разговоры о «девочке», молчал, но однажды, внутренне содрогаясь от неловкости, злости и гадливости – женщина, с которой ОН спал, носит чужого ребенка, – сухо сказал: говорить об этой девочке преждевременно.
Мальчик ушел к себе, плакал, а он стоял над ним, уверяя беспомощным голосом, что он не имел в виду, что с его мамой случится что-то плохое, что он вообще ничего не имел в виду… Он даже дернулся было погладить мальчика по голове, но он так давно не обнимал его, не трогал, что это оказалось невозможным. Нет, он, конечно, держал его на руках, когда тот был маленький… Черт возьми, во что его втравили и, главное, ЗА ЧТО?!