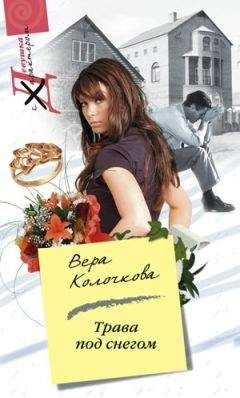– Не говорила, потому что ты не поэтического склада.
Намек на мое мещанство меня задел, но вообще-то Роза была права. До нашего знакомства поэзия была мне до лампочки. Я не понимал, какой в ней толк, на моем горизонте она не возникала. Однажды я спросил Боба Дилана, о чем Розины стихи.
– Точно не скажу, она пишет на сербскохорватском, – ответил ВБД. – Но в английском переводе смахивает на китайскую поэзию.
Это ничегошеньки не прояснило, и ВБД продолжал:
– Нить вроде как бессвязных размышлений, которые объединяет последняя строка, своего рода мораль.
Конфузно получать сведения от парня, который вдвое моложе тебя, но разговор этот открыл мне, что я до черта всего не знаю. В том-то и штука, что неуч не подозревает о своем невежестве. Можно всю жизнь прожить безграмотным тупицей, ни капли не сомневаясь в собственной якобы гениальности. Свои просчеты глупость всегда сваливает на неудачу. Тем не менее Розино стихотворчество еще больше возвысило ее в моих глазах, пусть сам я и был равнодушен к поэзии, которую полагалось любить. Мне нравились, скажем, вестерны Луи Ламура – вроде неплохое чтиво. Роза, совсем иная натура, сильно повлияла на мои воззрения, и теперь я охотно почитываю стишки, хотя, пожалуй, возраст уже не позволит мне выработать безукоризненный литературный вкус. Правда, дочь не оставляет попыток его привить и требует, чтоб я прочел толстенный «Миддлмарч»[13], но у меня не хватает духу. Книжищу дочь прислала на Рождество аж из Новой Зеландии.
Вот уж не ожидал, что проститутка окажется поэтессой. Как-то в голову не приходит, что шлюхи – обычные люди. Невозможно представить, что они ходят по магазинам или купаются в речке. Было удивительно, что Роза – просто живой человек, и не менее удивительно, что я так к ней прикипел. Конечно, глупо думать, что проститутки не ходят в кино или не гуляют в парке. Все мы обманываем себя упрощениями и оттого не можем вообразить шлюху в супермаркете, военного, коллекционирующего бабочек, или монарха на горшке.
Детство ее, говорила Роза, было счастливым, о нем нет плохих воспоминаний, кроме двух случаев – когда в сенном сарае она увидела мертвеца и когда отец ударил мать.
Мне было хорошо одной в раздолье пшеничных полей, искрещенных канавами. Одной, потому что брат Фридрих родился в 1946 году. Его назвали в честь Энгельса. Я дожидалась 1960 года. Мать говорила, что я стала нечаянной радостью, но, по-моему, все просто: отец взял ее силой, а она не успела вовремя от меня избавиться.
Фридрих приводил домой дружков и потешался над сестрой: «Что такое „сиськи“, Роза? Сколько сисек у девочки?» «Три или четыре», – угадывала Роза, чем приводила мальчишек в неописуемый восторг, и они, хохоча, тузили друг друга. Потом Фридрих просил прощения, однако издевок не прекращал. Позже он стал офицером федеральной армии и Роза его почти не видела.
Ее назвали в честь Розы Люксембург, хоть та была очень некрасива и скверно кончила. Вроде бы та Роза числилась среди героических коммунистов, но я не помню, чем она знаменита. На детских фотографиях моя Роза вовсе не уродлива. Такая славная миленькая крепышка. Когда я разглядывал снимки, кольнуло сожаление о том, в кого эта девчушка превратилась, однако похоть моя не угасла.
Меня манили ее цыганские глаза, иссиня-черные блестящие волосы с прямым пробором и мягкие полные губы. Наверное, до чрезмерного увлечения спиртным и сигаретами цвет лица тоже был великолепный. Девочкой она крутилась перед зеркалом и мечтала стать красавицей, которую увезет принц.
– Вроде бы не очень коммунистическое желание, – сказал я.
Роза пожала плечами:
– Все мечтают одинаково.
Я подметил, что Роза все пересчитывает; оказалось, в детстве это был ее пунктик. Все ее пальцы были целы, но все равно она их пересчитывала, каждый загибая, чтобы не посчитать дважды. На наших прогулках она считала штакетники и встречных в шляпах. Ее огорчали снежинки – они не поддавались счету. Числа имели свое значение. Один – столько глаз у папы; два – столько глаз у Розы, а у папы золотых зубов. Три – столько раз надо крутануть заводную ручку, чтобы папина машина завелась; четыре – столько колес у машины. Пять – столько пальцев на одной руке, шесть – во столько лет Роза получила первые карманные деньги. Ну и так далее. Роза не любила число «семь» – под него ничто не подходило. Как-то раз я неуклюже попытался ее подколоть:
– А что означает «пятьсот»?
Роза глянула на меня презрительно и стряхнула пепел с сигареты.
– Я уже говорила: деньги, за которые я трахалась, – отвернувшись, сказала она.
– А теперь почем? – как бы в шутку поинтересовался я.
– Почему ты спрашиваешь?
Я аж взопрел и тотчас заткнулся, поняв, что совершил ужасную ошибку, но тут вошел Верхний Боб Дилан и свежим дурацким анекдотом разрядил ситуацию.
Роза не заводила себе воображаемого друга. Я, впрочем, тоже. Она часто вспоминала персонажи народных сказок, про которые ей рассказывала плешивая бабушка, скрывавшая лысину под шалью. Старуха носила черную вдовью одежду и растоптанные башмаки, подходившие на любую ногу. В жизни таких не видел; может, Роза сочиняла? Правую щеку бабки, вспоминала Роза, украшала огромная волосатая бородавка, и целовать ее было все равно что лобызаться с мужиком. Старуха рассказывала о дедовом брате, ходившем на медведя, и бабкиной сестре, которая бежала от мужа-тирана и в шайке разбойников перебралась через Динарские Альпы. Потом на рыбачьей лодке уплыла на остров Кефалония, где стала жить с человеком по имени Герасим. Через много лет с двумя сыновьями-верзилами она приехала на родину и потребовала развода. Видимо, хотела узаконить детей, чтобы Герасим сошел в могилу честным человеком.
Мне нравились эти байки, но теперь я уж и не знаю, было ли в них хоть сколько исторической правды. Помнится, там фигурировал некто «Черный Георгий», а еще кто-то по имени Матия Губец[14]. Слегка наигрывая благочестивый ужас, Роза смаковала жутко кровавые истории о турках. Одна была про властителя, который всех пленных ослепил, но в каждой сотне одного оставил зрячим, чтоб отвел товарищей домой. Король, с которым турок воевал, от потрясения умер, увидев, что сталось с его войском. Потом была история о трагической любви принца Михаила и еще о том, как в загребском соборе Губеца короновали «крестьянским королем»: толпа ревела и размахивала шляпами, а ему на голову надели добела раскаленный обруч. Рассказы эти, нередко запальчивые, объясняли Розину ненависть к туркам, хорватам, албанцам и прочим балканским соседям. Как-то я слышал анекдот об ирландском варианте болезни Альцгеймера: забываешь все, кроме ненависти. Наверное, Розины истории – балканская разновидность этого недуга. Я пересказывал ей знаменитые английские легенды – скажем, о короле Альфреде и сгоревших пирогах или о Роберте Брюсе и пауке, – но они, конечно, не могли состязаться с историями о тех, кого короновали добела раскаленным обручем. Много позже дочь рассказала мне, как погиб король Эдуард Второй: ему в задницу вогнали добела раскаленную кочергу. Наверняка Роза оценила бы этот сюжет, и я пожалел, что уже не с кем поделиться.



![Александра Гейл - Дневник любовницы мафии [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/12422/12422.jpg)