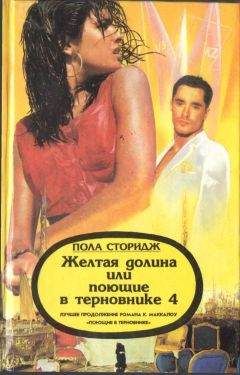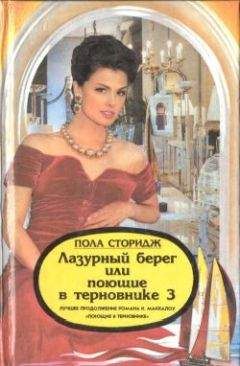— И что же вы празднуете, милые дамы? — поинтересовался Дик. — О чем разговор, если не секрет?
— О жизни, — весело доложила Джастина.
— Я сказала Джастине, что мы с тобой собираемся купить свою ферму и переехать из Дрохеды, — сказала Мэгги, стараясь сделать Дику приятное.
— А мне очень нравится в Дрохеде, — сообщила Дженнифер. — И я здесь, пожалуй, останусь пожить. Ты не возражаешь, мама?
— Нет, не возражаю, — засмеялась Джастина. — В детстве мне тоже здесь нравилось, но потом я уехала отсюда и, по правде говоря, не жалею, хотя иногда меня и тянет сюда.
— Ты правильно сделала, что уехала. Иначе тебе пришлось бы играть в нашей любительской труппе, а мне — каждый раз выслушивать от соседок их глупую болтовню о том, что они увидели вчера на спектакле, — сказала Мэгги.
Что это такое, Джастине не нужно было рассказывать. Она прекрасно помнила эти нудные посиделки, когда за чашкой чая со сладкими булочками эти пожилые матроны щебетали:
— Как вы любезны, благодарю вас, передайте мне еще смородиновое повидло.
— Мы пришли насчет этой лотереи. Вы знаете, благотворительность в последнее время совсем позабыта.
— Как же, как же.
— О, нам некогда сидеть. Нужно еще побывать в нескольких домах.
— Ну что вы, я вас не отпущу без чая и булочек.
— А вы видели вчера водевиль?
— О, это было просто великолепно. Я так смеялась, так смеялась, хотя мне совершенно не понравилась исполнительница главной роли.
— А вы знаете, она расстегивает лиф и распускает волосы. Весь эффект у нее именно в этом. Вы заметили, что она делала то же самое и в предыдущей пьесе?
— Говорят, она что-то принимает, чтобы поддерживать этот странный цвет лица.
— Нет, нет, она зелена от рождения.
— Но у нее все движения рассчитаны, она совершенно не полагается на импровизацию.
— Может быть, потому, что она совершенно не умеет импровизировать?
— Ха-ха-ха. Интересно, как долго она искала свой сценический образ.
— Да, она умирает с таким реализмом. Она хватается за грудь — вот так! — запрокидывает голову, лицо ее зеленеет. Потрясающее впечатление.
— Как это, должно быть, тяжело — постоянно делать одно и то же.
— А вы заметили, что она играет только драматические роли? Она довольно прилично научилась заламывать руки и стонать, закатывая глаза. Даже в комическом водевиле она все делает так, как будто она леди Макбет.
Но самое смешное начиналось тогда, когда к разговору подключался кто-либо еще, обычно мужчина.
— Вы видели вчера этот водевиль?
— Омерзительно! — восклицал он.
— Как омерзительно? Она же бесподобна, когда хватается за грудь и запрокидывает голову…
— Бросьте, отвратительный реализм.
Начинался спор, в котором кто-то пытался защитить реализм, а кто-то решительно не признавал его.
— Ничего этого не должно быть, ничего, слышите. Реализм унижает искусство. Хорошие вещи в конце концов нам не покажут со сцены.
После этого кто-то рассказывал о том, что одна дама в первом ряду упала в обморок, после чего все сходились на том, что именно таким и должен быть эффект от хорошего театрального спектакля. Разговоры переходили на благотворительную лотерею и виды на урожай гороха.
Джастина всегда с ужасом думала о том, что было бы с ней, если бы она осталась в Дрохеде и посвятила свою жизнь подобным занятиям; ее ожидало бы только одно — изнуряющая тоска и тяга к перемене мест. Нет, она не была рождена для этой деревенской простоты и ухода за овцами. Ей хотелось другого…
Сейчас, в Дрохеде, Джастина частенько вспоминала свой дом на Парк-Лейн, свою просторную гостиную с ее бархатом и дорогим деревом мебели. Она не могла сказать, что чувствовала себя счастливой в этой обстановке, ощущая во всех вещах что-то тяжелое и незыблемое, как Биг-Бен и Тауэр. Тяжелые портьеры и темная массивная мебель только усугубляли ее затянувшееся спокойствие.
Единственным развлечением, которое Джастина позволяла себе, приезжая вечером домой после спектакля, было бросить взгляд на обширный горизонт, на громаду Лондона, расстилающего перед ней волнующее море серого камня. Из ее уединенного уголка открывалась эта безбрежность.
Время проходило быстро, и уже скоро Джастина уехала к себе в Лондон, оставив Дженнифер в Дрохеде. Лиона, как всегда, дома не было, он звонил ей накануне ее отъезда из Дрохеды и сказал, что задерживается в Париже.
— Я соскучилась по тебе, Ливень. Приезжай скорее, — грустно сказала Джастина. Но вот она уже в Лондоне, а Лиона все нет. Джастина забросила вещи домой и помчалась в театр. Она сразу же с головой ушла в работу, и скучать было некогда. Джастина даже не стала жалеть себя, когда ночью одна ложилась в холодную постель.
Ночник из синеватого стекла горел на комоде рядом с широкой постелью, заслоненный книгой; остальная половина комнаты тонула в тени. Мягкий свет пересекал небольшой круглый столик, струился по широким складкам бархатных портьер, бросал голубоватый отблеск на зеркало палисандрового шкафа, стоявшего в дальнем углу комнаты.
В гармоничности убранства комнаты, во всеобъемлющей синеве обоев, мебели и ковра было в этот ночной час нечто от смутной нежности облака.
Широкая кровать, также обтянутая бархатом, выделялась полутемной громадой; на ней светлыми пятнами были обозначены простыни. В глубине комнаты широким провалом чернела открытая дверь.
Не слышалось ни звука. Джастина спала, сложив руки, словно маленький ребенок.
Огненно-рыжие, почти каштановые волосы разметались по подушке. Легкое дыхание Джастины было таким ровным, что было почти незаметно, как вздымается ее грудь. Она спала мирным и крепким сном, склонив голову, словно, засыпая, к чему-то прислушивалась.
Не слышалось ни звука. Шумы улицы давно умолкли. Сюда, к зеленым особнякам на Парк-Лейн, доносился лишь отдаленный рокот Лондона.
В большой гостиной, куда была открыта дверь из спальни, было очень тепло: в камине медленно догорало одно-единственное толстое полено. Обстановка в гостиной еще раз и еще раз напоминала о том, что такое настоящая роскошь. Черные с золотом портьеры и кресла, сиявшие ослепительным блеском позолоты, в угасающем свете огня из камина бросали тонкие сверкающие лучи. На доске камина, на столах, подоконниках пышно распускались цветы. В высокие стекла окон струился ясный свет из освещенной аллеи перед домом — там виднелись обнаженные деревья и черная земля. Стоял февраль.
Уже вернувшись домой из Дрохеды — хотя ей по-прежнему было трудно сказать, где ее настоящий дом, — Джастина целиком погрузилась в театральные дела, пытаясь в этой изнуряющей гонке заставить себя забыть о том, что ей рассказала мать и что ожидало ее саму. Она играла, играла и играла, с каждым новым спектаклем осознавая, что Шекспир начинает смертельно надоедать ей. Конечно, Клайд был прекрасным режиссером, а Марк Симпсон — великолепным партнером. Но была в этой незыблемости чувств и событий шестнадцатого века какая-то утомляющая усталость, которая накапливалась с каждым днем и заставляла Джастину искать чего-то нового, какого-то иного смысла.