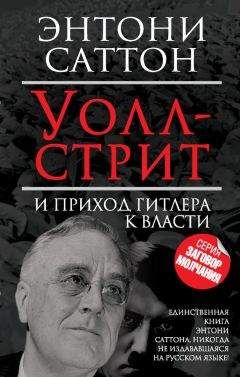Я подхватила кружевную юбку, чтобы не мелась по земле. Стелла выбежала вслед за мной.
– Бен! – окликнула я.
Бен, женщина, девочка – все трое разом обернулись.
Стелла у меня за спиной произнесла имя красавицы, и тут я поняла, откуда ее знаю. Это же Мишель Картер, знаменитая британская актриса, которую я столько раз видела на обложках американских журналов. Вблизи она оказалась легкой и воздушной, как обезжиренный йогурт.
Бен посмотрел на меня. Мишель посмотрела на меня. Девочка посмотрела на Бена.
– Папа… – пропищала она.
Позвольте остановиться здесь.
На реплике Мэдди.
Реплике, обращенной к Бену.
Позвольте остановиться здесь и не рассказывать, как Стелла нагнулась и сгребла в охапку мой кружевной подол, как сама я глядела на девочку, хорошенькую маленькую девочку, а она – на меня.
Прохожие останавливались, глазели на Мишель и указывали на нее руками.
Бен в полнейшем ужасе кинулся ко мне. Он произнес всего два слова, но не те два, о которых вы, наверное, подумали. Он не сказал: «Прости меня», «Это неправда» или «Я объясню».
Он сказал:
– Потрясающе выглядишь!
И все. Как будто больше ничего не понял. А если правда не понял? Значит это что-нибудь или нет?
* * *
Десятью часами позже я сняла атласные туфли на каблуках и пошла вверх по лестнице, придерживая неподшитый подол, чтобы не споткнуться. Хотелось поскорее юркнуть в свою комнату.
Телефон снова зазвонил – заревел на весь дом.
– Не вешай трубку!
– По-моему, мы это уже проходили.
– Ты ведь ответила? Значит, тебе все-таки хочется меня выслушать.
Бен был прав. Я могла бы отключить телефон, но не сделала этого. Не хватило духу. В глубине души мне хотелось, чтобы мой жених сочинил какую-нибудь историю. Чтобы все опять стало хорошо, а он снова превратился в родного, знакомого Бена.
Я села на верхнюю ступеньку. Расправила подол.
– Пойми, я узнал о Мэдди всего пару месяцев назад…
– О твоей дочери?
– Да, – сказал Бен, помедлив. – О моей дочери.
– Сколько ей?
– Четыре с половиной.
Он сделал ударение на слове «половина», и я понимала почему.
Мы познакомились пять лет назад. Половина означала, что Мэдди была зачата еще до меня. До нас.
– Естественно, я не собирался скрывать от тебя вечно, но с Мишель очень непросто. Я хотел все уладить, прежде чем втягивать в это тебя.
– В каком смысле непросто?
Повисло молчание.
– Очень непросто, – произнес наконец Бен.
Я встала. С меня хватит. Не желаю больше выслушивать объяснения, которые ничего не объясняют. Не желаю чувствовать, как сердце колотится где-то в горле.
– Послушай, – снова заговорил Бен, – я не хочу, чтобы ты совершила какой-нибудь необдуманный шаг. У нас через неделю свадьба.
– Не уверена.
Бен умолк.
– Именно это я имел в виду под необдуманным шагом, – произнес он наконец.
Голос у Бена звучал совершенно убито. Мне вспомнился наш первый телефонный разговор. Бен только что стал клиентом нашей фирмы, и я позвонила, чтобы познакомиться. А незадолго до моего звонка у него украли велосипед. Тогда я еще не знала, что Бен ездил на нем лет десять, не меньше. Это было не столько средство передвижения, сколько необходимый придаток. И все-таки к концу беседы мой будущий жених уже смеялся и шутил. Велосипед, как и грусть, остался в прошлом. Благодаря мне – так он сказал. Даже теперь, несмотря ни на что, какой-то части моей души по-прежнему хотелось сделать его счастливым.
– Где ты? – спросил Бен. – Давай я приеду, и мы поговорим.
Я рассеянно огляделась – возможно, потому что Бен спросил, где я. Слева – широко открытая дверь в мою комнату. Справа – спальня родителей.
А на пороге – мужчина. Высокий, грузный. И совершенно незнакомый.
Его бедра были обернуты полотенцем.
Рядом, укутанная в точно такое же полотенце, стояла мама.
Рядом с чужим мужчиной.
Я выронила телефон.
– Мамочки! – взвизгнула я.
– Мамочки! – взвизгнула мама.
Мужчина попятился обратно в спальню, в которой, похоже, чувствовал себя как дома. Потом раздумал отступать и протянул мне руку.
– Генри, – представился он.
Ноги у меня приросли к полу, но я все же пожала протянутую руку, как будто ничего особенного не происходило.
Мама в ужасе поднесла пальцы ко рту. На миг мне почудилось, что ее мучает стыд. Но тут она дотронулась до моей щеки сначала тыльной, потом внутренней стороной ладони и прошептала:
– Что ты сделала со своим платьем?!
Если бы я составляла рейтинг – придет же такое в голову! – этот день явно не мог бы претендовать на звание лучшего в моей жизни.
Я сидела в столовой вместе с мамой. Мы обе переоделись в джинсы и футболки с длинным рукавом, а мое платье перекинули через дверь. Между нами висело неприязненное молчание.
Генри ушел. Мама попрощалась с ним на крыльце, пока я стояла и ждала, чтобы он отчалил. Точно такая же история произошла со мной в выпускном классе, когда за мной ухаживал татуированный хулиган Лу Эммет. Только теперь мы с мамой поменялись ролями.
Она налила себе кофе, избегая смотреть мне в глаза. Заговаривать я не собиралась. В другой раз я бы наклонилась к ней через стол, попробовала как-то облегчить тяжелый разговор, но только не сегодня. Маме придется первой нарушить молчание – придется придумать, как все объяснить.
Я разглядывала фотографии, висящие у нее за спиной, на которых была запечатлена вся их с папой совместная жизнь – начиная с маминого переезда на виноградник и даже еще раньше. На моей любимой фотографии мама в длинном черном платье, тогда еще виолончелистка в Нью-Йоркском филармоническом оркестре, улыбалась на камеру, прижимая к себе инструмент. Сидящая передо мной женщина удивительно напоминала девушку на снимке: те же длинные кудрявые волосы, широкие скулы, чуть скошенный на сторону нос. И по-прежнему ни грамма косметики – мама в ней не нуждалась.
Рядом с этим портретом висела фотография, на которой я играла в софтбол. Я росла настоящей пацанкой – не хотела отстать от братьев. Носила только футболки и кеды, а волосы собирала в простой хвост. И все же сходство было разительное: те же кудри, только темные, тот же нос. Глаза темно-зеленые, как у отца, а разрез мамин.
Мама говорила, что я ее точная копия, только папиной расцветки. Однако переезд в Лос-Анджелес меня преобразил. Этот город меняет всех – незаметно, понемногу, пока ты не перестаешь сама себя узнавать. Вращаясь среди роскошных женщин, частых гостий на занятиях по йоге и вечеринках, я начала обращать внимание на то, о чем не задумывалась раньше. Возможно, если бы я перебралась из Сономы в Нью-Йорк или Чикаго, эффект был бы тем же. Но я переехала именно в Лос-Анджелес, где и постигла искусство, которому не научишься, живя среди фермеров. Искусство выглядеть и чувствовать себя сексуальной.
Мое преображение прослеживалось по фотографиям на стене. Мама шутила, что из более темной ее копии я превратилась в более гламурную – этакую кинозвезду. В ответ я уверяла, что сравнения с настоящими кинозвездами мне не выдержать: чтобы убедиться, достаточно пройтись по бульвару Эббота Кинни. Впрочем, я действительно выглядела теперь по-другому, чем немного гордилась.
Солнце Южной Калифорнии осветлило мои волосы, я сбросила десять фунтов и стала одеваться так, словно имела какое-то представление о вкусе.
Под руководством и по настоянию подруги Сюзанны я однажды купила туфли, которые стоили больше моей месячной квартплаты. На следующий день, мучимая угрызениями совести, я попыталась их вернуть, но магазин не принимал товары обратно. Это были волшебные туфли – изящные, на шпильках, удлиняющие ноги до бесконечности. Я не пожалела, что оставила их себе. Они пережили мою тогдашнюю квартиру, как и все следующие.
Всякий раз, как я приезжала в гости, мама говорила: «Какая же ты стильная!» Впрочем, я знала, что она не одобряет столь резкого перехода от собранных в хвост волос к узким юбкам. Мама была уверена, что стиль должен даваться легко и естественно. При виде очередной обновки она присвистывала и с лукавой улыбкой произносила: «Только поглядите на эту лос-анджелесскую броню!» А утром, когда я, как в детстве, сбегала по лестнице на запах маминых вафель с грецким орехом и вишней, она первым делом дотрагивалась до моей кожи и говорила: «Красавица!»
Разница между двумя моими домами была столь велика, что необходимость постоянно перестраиваться вызывала у меня легкое чувство одиночества. В Сономе носили джинсы, флисовые пуловеры и практичные сапоги. В Лос-Анджелесе – босоножки и тертые джинсы, искусственно состаренные за двести семьдесят пять долларов. Я балансировала на грани между двумя этими мирами, не в силах обосноваться ни здесь, ни там. В Лос-Анджелесе я чувствовала себя не в своей тарелке. А когда возвращалась в Соному, мое новое, наскоро сколоченное я, у которого якобы все под контролем, осуждало местную неутонченную, сельскую жизнь, чего раньше со мной никогда не бывало. Я не хотела никого осуждать, но ничего не могла с собой поделать.