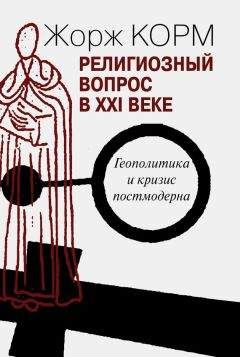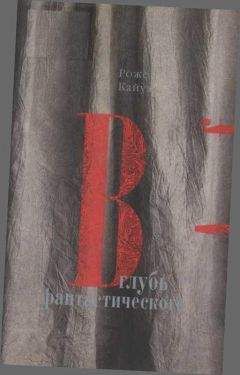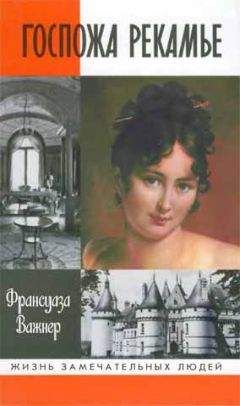Ознакомительная версия.
Однако в конце XIX века и в начале XX в Европе, несомненно, главной составляющей идентичности является совсем не религия, а нация, отныне рассматриваемая в качестве естественного, подлинного и объективного феномена. Каждый теперь – француз, итальянец, немец, англичанин или испанец. У многих историков мы находим талантливое описание того, как нации и европейские национализмы фабриковались, как вводились в строй большие национальные мифологии, как деревенские территории представлялись в качестве элемента фольклора, как выстраивались новые воспоминания[74]. Идентичность в таком виде настолько придется европейцам по вкусу, что дважды за XX век их нации развяжут убийственную войну, театром которой будет не только Европа, но и колонии, которыми она обзаводилась, начиная с XVII века. Другие страны также будут втянуты в две этих войны: США и Османская империя в войну 1914–1918 года, а Япония – в войну 1940–1945 гг.
Можно заметить, что в историческом контексте XIX века слово «нация» стало использоваться в новом значении, сформировавшемся в период Французской революции, которая связала понятие нации со священной мистикой суверенитета, которым ранее в соответствии с принципами божественного права удостаивался лишь монарх: теперь же несуверенная нация – это нация угнетенная, неполная, лишенная свободы и человеческого достоинства. Само слово «нация» не было для европейской культуры новым. Оно происходит от латинского корня, означавшего «рождаться в определенном месте и определенной среде». То есть до Французской революции оно означало провинцию, из которой происходил данный человек (как бретонец, провансалец, бургундец и т. п.), а название провинции отсылало к определенной этнической характеристике (которой часто выступал местный говор), к патрониму старинного племени, когда-то захватившего провинцию, или же к древним феодальным семьям, добившимся господства над этой провинцией.
Парадокс, который можно здесь выделить, состоит в том, что современное употребление слова «нация» – как суверенного народа, хозяина своей судьбы, – сохраняет ту силу мистики, принудительной и безусловной морали, которую обычно приписывают вере и религиозной идентичности. Тогда как по своему происхождению слово было гораздо более нейтральным. Нация в смысле «провинции», конечно, предполагала гордость за те или иные качества своей земли, включая и ее религиозную специфику; но она не была всеобщим и исключительным критерием идентичности, каковым станут нации XX века. Тогда как XIX век в Европе характеризовался тем, что историки назвали «движением национальностей»: революции 1830 и 1848 гг. стали «весной народов»; объединение Германии и Италии открыло путь «пробуждению национальностей» во всей остальной Европе, а также на ее периферии[75]. В то же самое время квази-мистическая концепция суверенного «тела» нации почти везде порождает «проблему меньшинств»: те, кто не говорят на том же языке и не практикуют ту же религию, что и остальная нация, превращаются в некое инородное «тело», «меньшинство», вызывающее подозрения[76].
Как же произошел в Европе этот переход от провинциального смысла латинского слова к суверенной нации, романтически воплощающей в себе дух «народа», описанный в XIX веке немецкими философами и историками, а затем и французскими – в особенности Мишле? Понятие народа в процессе исторического развития приобретало различные значения, эволюцию которых стоит обрисовать хотя бы в самых общих чертах.
Организация идентичности: от культа, предков к современному национализму
Два тысячелетия монотеизма, по сравнению с которыми два последних века светской культуры – сущий пустяк, столь сильно повлияли на нас, что мы склонны забывать о том, что идентичность человеческих групп структурировалась культом предков. Организация идентичности и сопровождающей ее системы власти выражается в племенной солидарности и родстве или же в сосуществовании нескольких расширенных оседлых семей, живущих в рамках одного города («агнатическая семья»). Первичной матрицей идентичности является, соответственно, не столько религия – достаточно сложно выстроенный в интеллектуальном отношении феномен – сколько общее происхождение от одного предка. С течением времени, когда потомство становится все значительнее, сам предок окружается ореолом все более славных деяний, которые, в конечном счёте, приобретают мифический характер. В то же время, вполне логично, что эта связь, объединяющая нас с нашими родителями, а потом, по цепочке, и с нашими древними предками, оказывается первичной матрицей идентичности. В самых разных частях человечества культ предков в его различных формах издавна выступал единственным критерием идентичности[77]. Эта система идентичности служила опорой для авторитета старейшин, главы племени или собрания стариков и вождей: эти формы власти появлялись по мере того, как образовывались все более крупные союзы, как кочевые, так и оседлые. Именно на основе культа предков развились те религии, которые мы обычно называем «языческими», религии, множественность богов которых отражает множественность предков.
Развитие и усложнение социальной организации, сопутствовавшие укрупнению политических образований античности, приведут к существенным изменениям в функционировании древних религий. Боги различных племен и различных мест будут объединены большими космогониями, эволюционирующими по направлению к концепции единого бога. Это случится, собственно говоря, в Египте и Месопотамии, которые подготовят пришествие еврейского, а затем и христианского монотеизмов, которые сумеют сплавить воедино множество философских и религиозных концепций. Зигмунд Фрейд в своей работе «Моисей и монотеизм» сделает даже из Моисея египтянина, который якобы попытался увековечить концепцию единого всеобщего бога, сторонником которой был фараон Эхнатон. Такой ход означал расширение области происхождения иудаизма, рассматриваемого, конечно, в качестве предка монотеизма, однако лишь такого монотеизма, который остался привязанным к определенной линии родства, линии племен Израилевых, народа Яхве.
В действительности, именно в Ветхом завете мы находим архетип бога, привязанного к избранному им народу. Ключевые понятия «избрания» и Откровения закрепятся, приобретая самую разную форму, включая и атеистические формы расизма (к которым мы ещё вернёмся) или же идеологий современного национализма, сколько бы светским он ни желал предстать. В истории Израиля выстраивается целая система, объясняющая славу и превратности судьбы народа-племени, и эта система совмещается с идеей трансцедентности божества, идеей организации мира и его истории, замещающей языческие мифологии.
Об исторической судьбе евреев мы привыкли поэтому говорить как о чём-то уникальном и, одновременно, всеобщем.
Христианство увековечит эту идею святости народа, определяемую его религией. Именно об этом пишет святой Петр в своем «Первом Послании» (2.9): «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет».
Ислам тоже не останется в стороне. Действительно, христианский Запад, как и иудаизм, часто забывает, что ислам – это строгий и непреклонный монотеизм, религия Откровения, которая считает, что у неё общий предок с иудаизмом и христианством, а именно Авраам. Миссия ислама распространяется на все человечество; конечно, Коран был дан в Откровении на арабском языке, а в качестве печати пророков он избрал араба, однако его слово обращено ко всему человечеству через арабский народ. Более того, ислам намеревается сгладить теологические различия, связанные со взглядами на природу Христа, которые могли разделять иудеев и христиан, а также христиан в их собственной среде. Как и христианство, ислам, предполагается, разорвал племенные и этнические связи, чтобы утвердить всеобщность единой веры и уникальность идеала.
Здесь интересно задаться вопросом о совершенном в нашей культуре переходе от понятия племени к понятию народа. Если история Израиля исходно является историей племен, она становится также и историей народа, поскольку эти племена объединяются, обретают своего исторического вождя и закрепляются на обетованной земле согласно божественному завету, а их жизнь организуется вокруг Храма. Отсюда, вероятно, и возникает, когда мы используем слово «народ», неявная аура святости. Однако то, что отличает народ от племени, не связано с религией. Народы создаются оседлостью и урбанизацией; на них сказываются в равной мере географическая среда и унификация языка, которая позволяет развивать общую культуру.
Современный национализм будет бессознательно опираться на библейский архетип. Французские революционные принципы, задающие суверенитет, ранее ограниченный сферой действия Бога или сюзерена, правящего от его имени, а также немецкая философия, сакрализующая «дух» народа, усилили двусмысленность, с которой стало использоваться слово «народ». Гегель также внесёт свой вклад в эту сакрализацию, заявив: «В истории Дух – это индивид одновременно всеобщей и определенной природы, то есть народ»[78]. В Европе, характеризуемой движением национальностей, народы снова становятся в каком-то смысле племенами с трансцендентным призванием: у них есть душа, они – носители миссии и Откровения, руководимые благороднейшими из идеалов. Народ, осуществляющий себя как «нация», пользуясь полным суверенитетом, который завершает его завоевания и определяет его исторические границы, выстроен по образу Израиля, который после длительной истории мучений находит свою Обетованную землю и расцветает на ней, прежде чем познать другие горести.
Ознакомительная версия.