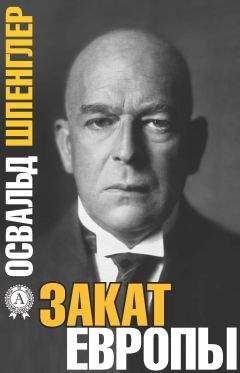Ознакомительная версия.
Я люблю глубину и тонкость математических и физических теорий, по сравнению с которыми теории эстетики и физиологии только жалкое кропательство. За великолепные, ясные, высокоинтеллектуальные формы быстроходного парохода, сталелитейного завода, прецизионной машины, а за тонкость и изящество некоторых химических и оптических манипуляций я отдам всю стильную дребедень современной художественной промышленности вместе с живописью и архитектурой. Я предпочитаю римский акведук всем римским статуям и храмам. Я люблю Колизей и исполинские своды Палатина за то, что они бурой массой своей кирпичной конструкции являют нашим глазам настоящий Рим – изощренный практический ум римских инженеров. Они были бы для меня безразличны, если бы до сих пор сохранилась пустая и наглая мраморная пышность цезарей, с ее рядами статуй, фризами и перегруженными архитравами. Бросьте взгляд на реконструкции императорских форумов: вы увидите нечто вполне соответствующее современным всемирным выставкам, навязчивое, громоздкое, пустое, нечто одинаково чуждое как греку времени Перикла, так и человеку эпохи рококо, нечто претенциозное по материалам и размерам, нечто подобное тому, о чем красноречиво говорят развалины Луксора и Карнака времен Рамзеса II, этого египетского «модерна» 1300 года до Р. X. Настоящий римлянин не напрасно презирал «Graeculum histrionem», этого «художника» и «философа» на почве римской цивилизации. Искусства и философия в эту эпоху больше не существуют; они были исчерпаны, использованы, излишни. Это подсказывал римлянину его инстинкт реальной жизни. Один римский закон имел больше значения, чем вся тогдашняя лирика и школьная метафизика. И я утверждаю, что в наши дни в ином изобретателе, дипломате и финансисте таится лучший философ, чем во всех тех, кто занимается плоским ремеслом экспериментальной психологии. Такое положение постоянно повторяется на определенной ступени истории. Было бы бессмысленно, если бы талантливый римлянин, вместо того чтобы в качестве консула или претора предводительствовать войскам, организовывать провинции, строить дороги и города или стремиться к тому, чтобы быть «первым в Риме», вздумал ломать себе голову в Афинах или Родосе над каким-нибудь новым оттенком послеплатоновской академической философии. Естественно, что этого никто и не делал. Это не отвечало направлению эпохи и могло прельщать лишь людей третьего разряда, всегда проникнутых духом времени позавчерашнего дня. Очень серьезный вопрос, настала ли уже для нас эта стадия или еще нет.
Век чисто экстенсивной деятельности, исключающий высокое художественное и метафизическое творчество (скажем прямо – иррелигиозный век, что вполне совпадает с понятием культуры мирового города), представляет собою эпоху упадка. Несомненно. Но эта эпоха не есть свободно избранная нами эпоха. Мы не в состоянии изменить того факта, что мы родились во время начинающейся зимы, в эпоху цивилизации, а не в полдень зрелой культуры, в эпоху Фидия или Моцарта. Крайне важно уяснить себе это положение, эту судьбу и понять, что относительно нее можно ошибаться, но избежать ее нельзя. Кто этого не понял, тот утрачивает всякое значение среди людей своего поколения. Такой человек остается дураком, шарлатаном или педантом.
Когда мы подходим в наши дни к какой-либо проблеме, мы должны предварительно задать себе вопрос – вопрос, ответ на который у действительно призванных подсказывается инстинктом: что доступно человеку нашего времени и от чего он должен отказаться? Существует лишь очень незначительная группа метафизических заданий, разрешение которых составляет удел мышления какой-либо эпохи. Целый мир лежит уже между временем Ницше, еще овеянным дыханием романтики, и современностью, окончательно отрешившейся от всякой романтики.
Систематическая философия получила свое завершение с исходом XVIII столетия. Кант сообщил ее последним возможностям великую (для западноевропейского духа) и во многих случаях окончательную форму. За этой систематической философией, так же как в свое время за философией Платона и Аристотеля, следует специфически присущая большому городу, не умозрительная, а практическая, иррелигиозная, этически-общественная философия. Она начинается, соответствуя Зенону и Эпикуру, Шопенгауэром, который впервые поставил в центре своего мышления «волю к жизни» («творческую жизненную силу»), но под впечатлением великой традиции сохранил еще мудрствования систематической философии о явлении и вещи в себе, о форме и содержании наглядного представления, о различии между разумом и рассудком, что затуманило более глубокую тенденцию его учения. Это та же самая творческая воля к жизни, которая по методу Шопенгауэра отрицается в Тристане и по методу Дарвина утверждается в Зигфриде; которую Ницше с блеском и театральностью формулировал в «Заратустре»; которая через гегельянца Маркса дала толчок к созданию политико-экономической, а через мальтузианца Дарвина к созданию зоологической гипотезы (эти две гипотезы сообща и незаметно преобразовали мироощущение западноевропейских обитателей мировых городов), которая породила, начиная с геббелевской Юдифи до ибсеновского Эпилога, ряд трагических концепций одинакового типа и тем исчерпала цикл подлинно философских возможностей.
Систематическая философия нам теперь бесконечно далека; этическая же завершила свой путь развития. Остается еще третья возможность европейского духа, соответствующая эллинскому скептицизму, – та возможность, которая характеризуется неизвестным до сих пор методом сравнительной исторической морфологии. Возможность – значит необходимость. Античный скептицизм не историчен; его сомнение сводится к простому отрицанию. Западный скептицизм должен быть насквозь историчен, если он обладает внутренней необходимостью, если он хочет быть символом завершающей свой путь западной души. Он исходит из утверждения, что всякое историческое явление относительно. Метод его психологический. Скептическая философия выступает в эллинизме как отрицание философии – философию объявляют бесцельной. В противоположность этому мы принимаем историю философии как последнюю серьезную тему философии. Это скептицизм. Греки отказывались от абсолютных точек зрения, иронизируя над прошлым своего мышления; мы же отказываемся от них, потому что понимаем прошлое как организм.
В настоящей книге будет сделана попытка дать в общих чертах характеристику этой «нефилософской философии» будущего – пусть она будет последней философией. Скептицизм является выражением чистой цивилизации: он разлагает картину мира предшествующей культуры; он превращает все прежние проблемы в проблемы генетического характера. Убеждение в том, что все, что есть, становилось; что в самой основе всего реального и познаваемого лежит нечто историческое; что в основе мира как реальности лежит «Я» как возможность, которая в нем осуществилась; что не только в вопросе «что именно», но в вопросах «когда» и «как долго» кроется глубокая тайна, – приводит к тому факту, что все существующее и происходящее, какой бы характер оно ни носило, должно быть также выражением чего-то живого. В ставшем отражается становящееся. В старой формуле «esse – percipi» [4] проглядывает изначальное ощущение, что все реальное должно стоять в исключительном отношении к живому человеку и что для мертвого ничего более «тут не существует». Но покинул ли он мир, свой мир или упразднил своею смертью его бытие! Вот в чем вопрос. Но как раз это отношение исследовано мыслителями периода систематической философии только в формальном, природообразном, невременном, стало быть, гносеологическом смысле. Мыслили «человека вообще», но не людей, находящихся в определенных исторических условиях. Для мыслителей этического периода, уже для Шопенгауэра, вопрос этот отступил на задний план перед другим вопросом, идеалистического или утилитарного характера, именно перед вопросом о ценности того, что «существует здесь» для отдельного человека или для всех людей. Но и в этом случае мыслили «человека» как тип, не исследуя правомерности столь общих выводов. Теперь лишь наконец, в стадии историко-психологического скептицизма, исходя из непосредственного чувства жизни, начинают замечать, что весь окружающий нас мир есть лишь функция самой жизни, зеркало, выражение, символ живой души и, конечно, прежде всего каждой отдельной души, взятой сама по себе. Знание и оценки есть также акты живых людей. Для мышления ранней эпохи внешняя реальность есть результат познания и повод для этической оценки; для мышления поздней эпохи реальность прежде всего символ. Морфология всемирной истории необходимо становится универсальной символикой.
Тем самым устраняется притязание более развитого мышления находить всеобщие и вечные истины. Истины всегда таковы только в отношении к определенному человеческому типу. Развиваемая здесь философия сама, таким образом, может быть выражением и отражением только западной души, в отличие ее от античной и индийской, и при этом лишь на стадии цивилизованности. Тем самым определяются содержание этой философии как мировоззрения, практическая широта ее применения и область значимости.
Ознакомительная версия.