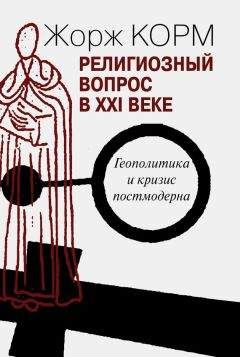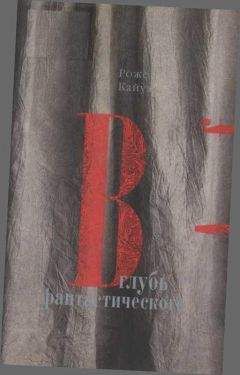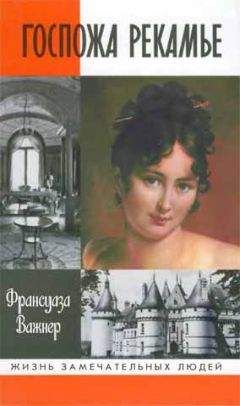Ознакомительная версия.
Занятно отметить, что после исчезновения турецкого халифата в 1924 году европейские державы, и прежде всего Англия, начнут поиски нового халифа, который мог бы обладать авторитетом в мусульманском мире, что станет отправным моментом для нового соперничества двух арабских суверенов, которые претендовали на этот титул[106]. Франция, также занятая предприятиями на Востоке и в западном Средиземноморье, всегда мечтала о возрождении ислама и управлении им[107]. Можно вспомнить о Наполеоне Бонапарте, который прибыл в Египет, представив себя как друга, с симпатией относящегося к этой религии[108]. В сравнительно недавнее время, в конце XX века, США также работали над мобилизацией ислама, понадобившейся, чтобы создать противовес советской экспансии в Третьем мире, (и в результате внесли вклад в процесс радикализации, который в конечном счете приведет к терактам 11 сентября 2001 года). Эта инструментализация, которую мы описывали в других работах, долгое время была неизвестна крупным западным СМИ и никак не рассматривалась в академических исследованиях ислама. Саудовская Аравия и Пакистан как активные распространители мусульманского фундаментализма в Третьем мире находились тогда на переднем фронте борьбы с коммунизмом, а США не только соглашались с этим, но и всячески стимулировали их и воодушевляли. Лишь в самое последнее время завесу тайны начали приподнимать, особенно в англосаксонской прессе, которая заинтересовалась феноменом распространения ваххабизма при поддержке США[109].
Но панисламизм сохраняется и в наши дни, в том числе благодаря обильной, но однообразной литературе (её мы рассмотрим в пятой главе), издание которой прерывалось лишь на короткий период расцвета светского панарабизма в 1950–1967 гг. Сегодня это уже не тот панисламизм, которым он был в XIX веке и в начале XX-го, когда он вдохновлялся философией модерна и стремлением к глубокой реформе религиозных и политических институтов мусульманских стран и не поддерживал терроризм ни в одной из его форм. Как мы увидим далее, панисламизм, носителями которого сегодня выступают исламские движения джихадистского толка, стал, напротив, антимодернистским и антизападным (нацеленным именно против того, что теперь стали называть иудео-христианской традицией), он сосредоточен на замкнутой воображаемой картине идеального мусульманского города.
Тем не менее, можно также утверждать, что, поскольку тождественные причины ведут к тождественным следствиям, имперское американское расширение на Ближнем Востоке приняло эстафету у прежней европейской экспансии на мусульманский Восток[110]. И если морфология этого панисламизма радикально изменилась, создав ситуацию интеллектуальной изолированности, причина ещё и в том, что она отражает изменение интеллектуальной атмосферы на общемировом уровне, характеризующееся подъёмом антимодернистских идеологий, тон которых был задан Западом в контексте холодной войны.
Однако инструментализация религии в целях международной геополитики касается не только ислама. Иудаизм также был мобилизован в рамках холодной войны, чтобы создать препятствия для дряхлеющего Советского Союза за счёт поддержки русских диссидентов иудейского вероисповедания. В 1972 году даже ввели условия предоставления СССР режима наибольшего благоприятствования в торговле, связав их с соблюдением права советских граждан на эмиграцию, причем имелись в виду именно граждане иудейского вероисповедания[111]. В конце XIX века руководители зарождающегося сионистского движения выложили перед европейскими руководителями козырную карту – возможность, которой они якобы располагали, мобилизовать своих единоверцев по всей Европе, чтобы поддержать интересы Англии, в том числе и в других частях света[112]; именно это станет основанием для знаменитой декларации лорда Балфура в 1917 году, согласно которой министр иностранных дел Великобритании выделяет евреям «национальный центр» в Палестине, который станет зародышем будущего государства Израиль.
Несмотря на утверждение и развитие светскости в мире европейской политической культуры и ее центральную роль в развитии национализмов, смешение религии и национальности коснулось не только колониальной или имперской политики. Советский Союз еще в самом начале, применяя свою политику признания национальностей, создал еврейскую национальность и выделил ей особую область территорией в 42 тысячи квадратных километров, расположенную на границе с Китаем, в Биробиджане[113]. Позже маршал Тито, преобразовавший Югославию в коммунистическое государство, создал «мусульманскую национальность», в которую включил боснийцев.
В 1969 году, когда создается Организация исламского сотрудничества (ОИС), это новое применение религиозной идентичности в рамках международного порядка не вызывает никаких споров, ни даже недоумения, словно бы совершенно нормальным можно считать объединение государств, у граждан которых одна религия, а все остальное – язык, культура, политические режимы, уровни развития – разные.
Несомненно, причина в том, что это смешение религии и национальностей, которого европейская демократическая культура старательно избегала, когда речь шла о её собственных обществах, на самом деле постоянно практиковалось государствами Западной Европы в политике за пределами их собственных границ.
Бесспорно, однако, то, что за рамки этих новых феноменов религиозной идентичности, в значительной мере разогретых колониализмом, а затем геополитическим развитием конца XX века, выходит один из наиболее очеи видных признаков возрождения на Западе религиозной памяти – а именно та роль, которую играет выстраивание памяти о Холокосте и которая все больше становится центральной для системы западной идентичности.
Память о Холокосте: основополагающий акт возвращения религиозного?
В сущности, Европа этого исторического периода жила на двойной идентичности, составленной из национального чувства и в большей или меньшей степени окрашивающего его марксизма или антимарксизма. История немецкого национализма придёт при нацизме к окончательной кристаллизации убеждения в превосходстве немецкой нации над всеми остальными и к требованию освободить Европу от «злокозненного большевизма». Вот почему и в других европейских обществах нацистская идеология будет встречена с симпатией, объясняющей, на мой взгляд, её ошеломляющий успех, который не может быть приравнен к более позднему успеху её военной машины. Это ключевой момент, к которому мы ещё вернёмся, чтобы лучше выявить динамику возвращения религиозности в конце XX века и начале XXI-го (см. далее главу 4).
Имеет ли уничтожение нацизмом европейских евреев религиозное значение? Разве использование самого термина «Холокост» (долгое время предпочитаемого термину «Шоа», который утверждается сегодня), происходящего из жертвенного словаря Ветхого завета, не указывает на это? Феномену какого рода отвечают это крупнейшее событие и его отзвуки, которые слышны до сих пор? Не представляет ли особый модус формирования памяти о Холокосте – событии, вызванном взрывоопасной смесью расистского национализма и антимарксизма, ставшего главной составляющей современного антисемитизма, который теперь уже не связан исключительно с христианской традицией, – бессознательный основополагающий акт «возвращения религиозности» в нашей истории? Не служит ли выстраивание этой памяти образцом, ставшим практически универсальным, для прославления новых корней идентичности или же старых корней, забытых в далеком прошлом, а также фундаментом для нового исторического порядка и новых способов описывать Историю[114]? Этот исторический порядок, проницательно описанный историком Франсуа Артогом как «презентизм», полностью приспособлен к порядку глобализации, которая «выводит на рынок» само время, и к медийной экономике настоящего, которая «непрестанно производит и потребляет событие». К истории, таким образом, постоянно «обращаются за справкой» средства массовой информации, «которым выдан мандат экспертов по памяти»[115].
Придерживаясь того же строя идей, израильский историк Идит Зерталь полагает, что «можно было бы утверждать, что, если “Аушвиц” и другие великие катастрофы XX века сделали из воспоминания – особенно воспоминания жертв и выживших в исторической резне – всеобщее моральное обязательство, равного которому нельзя найти во всей истории, похоже, что патология памяти и одержимость ритуалами припоминания, характерными для нашей эпохи, в действительности складываются в хорошо выстроенную атаку против нашей способности самостоятельно запоминать прошлое. Если смотреть с точки зрения этого противоречия между потребностью вспомнить и силами забвения, диалектики непризнания и амнезии, имманентной самой избыточности ритуалов припоминания, возникает цепочка крайне острых вопросов: какова уместная экономия воспоминания и забвения? Какое количество истории и памяти нам нужно? Какой именно памяти, и что с ней делать?»[116]. Вот те ключевые вопросы, которые следует задать на пути нашего исследования и на которые мы попытаемся ответить по мере развития рассуждения.
Ознакомительная версия.