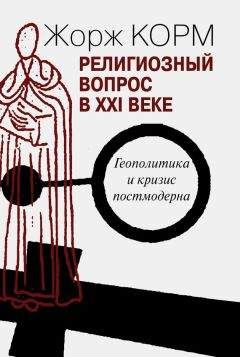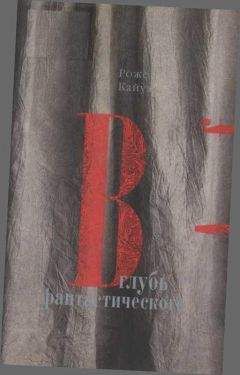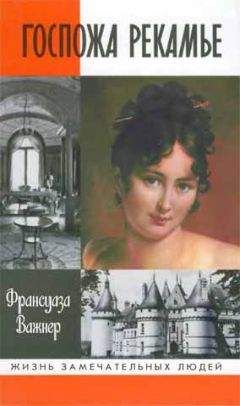Ознакомительная версия.
Говоря о Франции, историк войн гугенотов и католиков Арлет Жуанна упоминает о «диких зверствах»: «В городах, где особенно сильна католическая реакция, происходят систематические убийства гугенотов. Так, в Сенсе (12–14 апреля 1562 г.) по завершению своей процессии католики разрушают склад, служивший храмом, и убивают всех участников богослужения. В Туре в июле 1562 года убиты около двухсот гугенотов, которых бросают в Луару. Взятие городов, ранее завоеванных реформистами, зачастую отмечается ужасающими репрессиями, например, во время разграбления Оранжа в июне, Блуа в июле, а Систерона – в сентябре. Католические зверства изображаются в качестве орудия божьего гнева: поскольку еретик воплощает Сатану, надо постараться, чтобы он потерял всякий человеческий облик, а для этого его забрасывают камнями, вспарывают ему живот, калечат и расчленяют; участие детей в подобных актах по обезображиванию считается символом чистоты битвы за Бога. Насилие затягивает и гугенотов. Вначале они хотят ограничить его лишь образами и священниками, то есть в каком-то смысле “рационализировать” его; однако захват городов войсками гугенотов приводит к ужасающим эксцессам: примерами являются разграбление в начале июля Божанси в долине Луары, а затем убийство католических защитников Морнаса в Провансе, трупы которых погрузили на барку и отправили вниз по Роне с табличкой “Благочестивые жители Авиньона! Извольте пропустить сии товары, поскольку пошлину они уже оплатили в Морнасе!”»[157].
В той же Франции в Париже случилась знаменитая резня Варфоломеевской ночи (24 августа 1572 года), которая затем распространилась еще приблизительно на 15 городов. «Эти убийства в провинциях, – пишет Арлет Жуанна, – обнаруживают в тех, кто их совершали, всё ту же убежденность в том, что они исполняют волю Бога, очищая свой город от ереси, которая его запятнала; однако в то же время, особенно на юге Франции, они стали следствием внутренней борьбы за контроль над городской властью. В общем и целом, “Варфоломеевская ночь” во Франции унесла до 10 тысяч жизней»[158].
Католиков в Англии и протестантов Франции уже тогда стали считать своеобразной «пятой колонной» (как известно, само это понятие будет сформулировано только во время гражданской войны в Испании в 1930-е годы). Реформаторы считают католиков не только неисправимыми папистами, но и агентами или потенциальными шпионами Испании и Франции, католических держав. И наоборот, гугенотов считают не только опасными еретиками, но и агентами или шпионами Англии или кальвинистской Женевы и Голландии.
Анализируя причины, которые заставили Людовика XIV отменить Нантский эдикт в 1685 г., Жанин Гарриссон пишет: «На высшем уровне власть искренне (или притворно) обеспокоена европейскими связями французских протестантов. Эти опасения представляются достаточно логичными, ведь едва закончилась война, когда англичане сновали перед Ла-Рошель, предлагая помощь протестантам, которые принимали её. Возможность переговоров между Роханом и Испанией представляется правительству маловажной, поскольку больше оно боится союзов, основанных на религиозной общности, ведь в подобном случае гугенотам есть из кого выбирать – они могут вступить в связь с Англией, Республикой Соединенных провинций, Женевой, швейцарскими кантонами, немецкими городами и княжествами… Наверху знают, что существует некий реформистский интернационализм; швейцарские, женевские, шотландские и даже немецкие пасторы проповедуют во Франции и преподают теологию в академиях, тогда как французские пасторы-ученики уезжают завершать свое образование в Лозанну, Женеву, Гейдельберг, Лейден. Власть стремится разрушить это протестантское братство; оно представляется опасным государству, которое пытается утвердиться за счёт силы, а его пропагандисты прославляют “национализм”; путаный тезис, апеллирующий к “естественным границам”, начинает свою карьеру в тридцатых годах XVII века, а в учебниках по географии Рейн теперь фигурирует в качестве межи, разделяющей Францию и Германию. Несомненно, правительство начинает относиться к любым видам внешних связей как к определённой угрозе. Множество мер, принимаемых в период 1630–1656 гг., нацелены на то, чтобы сделать из протестантов добропорядочных французских подданных, а не участников общеевропейского общества»[159].
С другой стороны, жесткая цензура запрещает импорт иностранных книг, тогда как синодальные ассамблеи протестантов попадают под строгий государственный контроль, а пасторам запрещается использовать некоторые из терминов в своих проповедях. Уже здесь мы видим цензуру, предвосхищающую ту, что возникнет в тоталитарных обществах XX века, и чьё наследие ни в коей мере не сводится к наследию Французской революции.
Долгие века, инквизиции (XII–XVIII века): институционализация преступного инакомыслия
Мы уже говорили о драме Реформации и Контрреформации, но несколькими веками ранее Западной Церкви уже пришлось противостоять развитию ересей, которые привели её к учреждению судов инквизиции и к крестовым подходам против людей разных категорий, объявленных еретиками. Modus operandi инквизиции во многих отношениях будет задействован и в различных эпизодах Французской революции, русской революции и даже китайской культурной революции: похоже, что чистки, отлучения и физическое уничтожение противников догм господствующего учения, применяемые в политических режимах, вышедших из современных революций, довольно точно воспроизводят всё то, что происходило в лоне европейской католической Церкви в период между XII и XVI веками и что, в конечном счёте, выродилось во всеобщую религиозную войну.
Преступное инакомыслие в его современном понимании было институциализировано именно в Европе времён инквизиции, которая своего расцвета достигла в Испании при короле Филиппе II (правившем в 1555–1598 гг.). Начала этого понятия восходят к третьему Латранскому собору (1179 г.), который позволил власти, правящей по «божественному праву», противодействовать еретикам силой. Борьба с катарской ересью вызвала ожесточение, светская власть соединилась с папской, чтобы подавить ересь, и это подавление стало для неё практически религиозной обязанностью (в соответствии с решениями собора в Вероне 1184 года). В 1200 году в Авиньоне собор принял решение создать в каждом приходе комиссию, образованную из одного священника и трёх добропорядочных мирян, которые должны под присягой обещать разоблачать всех тех, кто перешел в ересь, кто поддерживал или скрывал еретиков[160]. После этого институт инквизиции будет постоянно развиваться, а испанцы даже экспортируют его в Южную и Северную Америку, где аутодафе будут практиковаться вплоть до 1815 года[161].
Арлет Жуанна прекрасно изображает чудовищную власть, которую в Испании XVI века приобрели суды инквизиции: «Расследуя любое инакомыслие, прямо или косвенно связанное с религией, суды инквизиции стали внушать ещё больший страх потому, что они не подчинялись общему праву. Инквизиция, как крайне централизованная организация, игнорирует форальный режим и любые апелляции, направляемые в Рим, поскольку Вальдес обладал даже папскими полномочиями, позволяющими инициировать процессы против епископов. Исключительность процедуры инквизиции, основанной на тайне, изоляции, анонимности доносчиков и отсутствии адвокатов, за исключением назначенных судом, делает её страшнее любого иного суда. Хотя пытки редки, а условия содержания, в общем, не так суровы, как в других тюрьмах, оправдательные приговоры или приостановки процесса почти не случаются, так что у задержанного мало шансов избежать осуждения. Последнее в среднем тоже было не таким суровым, как долгое время считалось; после “террористической” фазы первых десятилетий (1480–1530 гг.) число смертных приговоров упало до нескольких сотен на 27900 дел, рассмотренных в период 1560–1614 гг. Кроме того, хотя есть и другие тяжелые наказания, отправка на галеры или пожизненное тюремное заключение – приговоры довольно редкие. Тем не менее, весьма болезненны штрафы и конфискации имущества, ставшие источником доходов судов»[162]. Далее автор описывает «страх бесчестия», которое грозит всем тем, кто вызван в суд; не меньший страх вызывают и церемонии аутодафе.
«На воображение верующего человека всё это, – добавляет Арлет Жуанна, – оказывало такое воздействие ещё и потому, что “Святая инквизиция” могла карать власть имущих даже в большей степени, чем нищих, не щадила ни дворян, ни простолюдинов, а “letrados”[163]* преследовала больше, чем людей невежественных, – церковники вообще составляли значительную часть осуждённых. Также инквизиция привлекает к суду важных сеньоров, защищающих морисков, как и адмирала Арагонского и герцога Гандию»[164].
Генри Чарльз Ли, один из лучших историков инквизиции, попытался объяснить «чудовищную жестокость и варварское усердие», с которым еретиков предавали пыткам, а также изучить техники их разоблачения. «Таким образом, – пишет он, – всем христианам не только указывалось на то, что их первейший долг – способствовать искоренению еретиков, их ещё и безо всякого зазрения совести подталкивали к тому, чтобы доносить властям, презрев всякие человеческие или божественные устои. Кровные узы не могли служить извинением для того, кто скрывал еретика: сын должен был разоблачить своего отца, муж признавался виновным, если не предавал свою жену ужасающей смерти; детей учили тому, что они должны уйти от родителей; даже брачная клятва не могла сохранить связь правоверной женщины с мужем-еретиком. Частные обязательства также не заслуживали никакого уважения. Иннокентий III высокопарно заявляет, что, согласно канонам, мы не должны сохранять веру в того, кто сам не верит более в Бога. В случае ереси ни одна клятва о сохранении тайны не может действовать, поскольку “тот, кто верен еретику, не верен Богу”. Вероотступничество – величайшее из преступлений, – говорит епископ Лукас де Туй; следовательно, если кто-то поклялся хранить тайну о столь ужасной извращённости, он должен раскрыть ересь, а потом покаяться в клятвопреступлении, будучи уверенным в том, что, поскольку милость Божья способна простить множество грехов, к нему отнесутся со снисхождением, принимая во внимание его рвение»[165].
Ознакомительная версия.