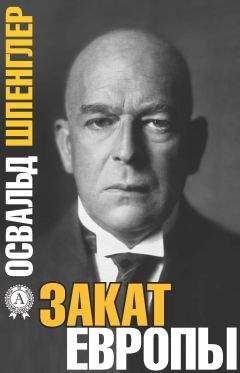Ознакомительная версия.
После разрушения персами Афин под их обломками были похоронены все произведения раннего искусства, откуда мы теперь вновь извлекаем их на свет. Нам неизвестно, чтобы кто-нибудь из греков заинтересовался развалинами Микен или Феста. Читали Гомера, но не думали, подобно Шлиману, о раскопке троянских холмов. Хотели мифа, а не истории. Уже в эллинистический период была потеряна часть сочинений Эсхила и досократовских философов. Но уже Петрарка собирал памятники древности, монеты, рукописи с благоговением и любовью, свойственными лишь нашей культуре. Наделенный историческим чутьем, озирающийся на отдаленные миры, стремящийся к далям – он первый совершил восхождение на вершину Альп, – Петрарка был, в сущности, чужд своему времени. Лишь из этой связи с проблемой времени развивается психология коллекционера. Понятно, почему этот культ прошлого, стремящийся сообщить ему нетленность, оставался совершенно незнакомым античному человеку, в то время как Египет уже в эпоху великого Тутмоса превратился в один огромный музей традиций и архитектуры.
Один из западных народов, именно немцы, изобрел механические часы, этот жуткий символ текущего времени. Бой часов, звучащий днем и ночью с бесчисленных башен Западной Европы, есть, может быть, самое чудовищное выражение, которое вообще способно дать себе историческое мироощущение7. Ничего этого не встречается во вневременном античном ландшафте и городе. В Вавилоне и Египте были изобретены водяные и солнечные часы, но лишь Платон ввел в Афинах водяные часы, опять-таки перед самым концом цветущего периода Греции. Еще позднее вошли в употребление солнечные часы, как несущественный прибор повседневного обихода, нисколько не изменивший античного мироощущения.
Здесь следует упомянуть еще об одном очень глубоком и ни разу вполне не оцененном различии, именно различии между античной математикой и математикой Запада. Античная математическая мысль воспринимает вещи как они суть, как величины, вневременно, в чистом настоящем. Результатом этого является Эвклидова геометрия, математическая статика и предельное достижение античной математики – учение о конических сечениях. Мы же воспринимаем вещи как они становятся и относятся друг к другу, как функции. Это ведет к динамике, к аналитической геометрии и от нее – к дифференциальному исчислению8. Современная теория функций является гигантским упорядочением всей этой массы мыслей. Странен, но психологически строго обоснован факт, что греческая физика, как статика, в противоположность динамике, не знает употребления часов и не нуждается в них; в то время как мы считаемся с тысячными долями секунды, она совершенно отказывается от измерения времени. Энтелехия Аристотеля есть единственное вневременное – не историческое – понятие развития, которое дает нам античность.
Итак, наша задача установлена, поскольку жизнь есть осуществление душевно возможного и новое понятие душевно невозможного сообщает другую точку зрения на вещи. Мы, люди западноевропейской культуры, точно ограниченного во времени периода от X до XX столетия, представляем исключение, а не правило. «Всемирная история» естьнаш, а не «общечеловеческий» образ мира. У индийцев и древних не существовало образа становящегося мира как рода и формы созерцания. И, может быть, когда угаснет цивилизация Запада, носителями которой мы ныне являемся, то более не появится уже культура и, стало быть, человеческий тип, для которого «всемирная история» есть одна из форм и одно из содержаний космического сознания.
6.
В самом деле, что такое «всемирная история»? Духовная возможность, внутренний постулат, выражение чувства формы? Разумеется. Но сколько бы ни было определенным чувство, оно не составляет еще законченной формы, и, как бы уверенно все мы ни чувствовали, ни переживали всемирную историю, как бы ни считали, что мы с полной ясностью схватываем ее образ, все же несомненно, что до сих пор мы знаем только формы ее, а не форму.
Несомненно, каждый, кого бы ни спросили, убежден, что он ясно и отчетливо созерцает периодическую структуру истории. Эта иллюзия покоится на том, что никто серьезно не задумывался над нею и что мы нисколько не сомневаемся в своем знании, ибо мы вовсе не подозреваем, сколько здесь поводов для сомнений. В действительности образ всемирной истории есть непроверенное духовное достояние, которое даже среди профессиональных историков передается неприкосновенным, по наследству, из поколения в поколение и в отношении которого была бы весьма полезной небольшая доза того скепсиса, который со временем Галилея расчленил и углубил прирожденное нам представление природы.
Древность – Средневековье – Новое время: такова та невероятно скудная и бессмысленная схема, абсолютное господство которой над нашим историческим сознанием всегда мешало нам правильно оценить небольшую часть мира, развернувшуюся со времени немецких императоров на территории Западной Европы, понять ее действительное место в системе всемирной истории, то есть всеобщей истории высшего человечества, уразуметь ее смысл, ее облик и особенно продолжительность ее жизни. Будущим культурам покажется почти невероятным, что этот план, с его наивной прямолинейностью и нелепыми пропорциями, становящийся с каждым столетием все более бессмысленным и совершенно не допускающий естественного включения вновь выступающих на свет нашего исторического сознания областей, – что этот план все же никогда не вызывал серьезных сомнений. Критика, которой он подвергся, и значительные модификации, которые ему пришлось испытать, как, например, перенесение начала «нового времени» с Крестовых походов на эпоху Возрождения и оттуда на рубеж XIX столетия, указывают лишь на то, что сам он считался непоколебимым, чуть ли не результатом божественного откровения, во всяком случае чем-то само собой разумеющимся, своего рода априорной формой исторического созерцания, как ее описал Кант.
Однако эта принятая всеми форма не допускала никакого углубления, и так как от нее не отказывались, то отказывались от действительного понимания всемирно-исторических связей. По ее вине важные морфологические проблемы истории не могли обнаружиться. Она удерживала рассмотрение истории на таком уровне, которого стыдилась бы всякая другая наука.
Достаточно указать на то, что этот план чисто внешним образом относит начало и конец туда, где в более глубоком смысле о начале и конце не может быть и речи. В нем территория Западной Европы образует как бы покоящийся полюс (математически выражаясь, сингулярную точку на поверхности шара), вокруг которого – неизвестно почему, разве только потому, что мы, авторы этой исторической картины, как раз здесь чувствуем себя дома, – скромно вращаются тысячелетия необъятной истории и грандиозные культуры далекого прошлого9. Это в высшей степени своеобразно изобретенная планетная система. Небольшое пятнышко становится центром тяжести исторической системы. Это как бы центральное солнце. Из этой точки события истории получают правильное освещение, из нее перспективно измеряется их значение. Но в действительности здесь говорит не обузданное никаким скепсисом тщеславие европейца, в духе которого развертывается этот фантом «всемирной истории». Ему мы обязаны давно уже вошедшим в привычку огромным оптическим обманом, в силу которого исторический материал, отделенный от нас тысячелетиями, например история Древнего Египта и Китая, сжимается до размеров миниатюры, тогда как десятилетия, близкие к собственному местонахождению, начиная с Лютера и особенно с Наполеона, чудовищно разбухают. Мы знаем, что только кажется, будто облако плывет тем медленнее, чем выше оно находится, а поезд, движущийся на горизонте, едва ползет. Но мы уверены, что темп ранней индийской, вавилонской и египетской истории был действительно более медленным, чем темп нашего ближайшего прошлого. И мы считаем субстанцию истории этих культур более тощей, ее формы – более смутными и более расплывчатыми, потому что мы не научились учитывать внутреннее и внешнее расстояние. Нигде не выступает ярче, чем здесь, недостаток духовной свободы и самокритики, отличающий в наше время исторический метод от других методов не в его пользу.
Само собою понятно, что для западноевропейской культуры, которая – скажем, с Наполеона – налагает на мир, по крайней мере внешним образом, печать своих форм, существование Афин, Флоренции и Парижа более важно, чем многое другое. Но превращать это обстоятельство в принцип построения всеобщей истории только потому, что мы живем в сфере западной культуры, – значит обнаружить узость своего кругозора. С таким же правом китайский историк мог бы в свою очередь построить всемирную историю, в которой крестовые походы и эпоха Возрождения, Цезарь и Фридрих Великий были бы обойдены молчанием, как события, лишенные значения. Злободневный политик и социальный критик при оценке иных времен могут давать волю своему личному вкусу, так же как химик-техник, подходя к вопросу практически, может трактовать дериваты бензола как важнейший отдел естествознания и не замечать, например, электродинамики; но мыслитель обязан исключать свою личность из своих построений. Почему с морфологической точки зрения XVIII столетие должно считаться более важным, чем одно из шестидесяти предшествующих? Не смешно ли «Новое время», то есть несколько столетий, да к тому же локализованных преимущественно в Западной Европе, противопоставлять «Древности», которая обнимает столько же тысячелетий и к которой масса всех догреческих культур причисляется просто как привесок, без попытки какого-либо более глубокого расчленения? Разве ради спасения устарелой схемы не разделываются с Египтом и Вавилоном как с прологом к античности? С теми самыми Египтом и Вавилоном, замкнутые в себе истории которых, каждая в отдельности, далеко превосходят всю мнимую «всемирную историю» от Карла Великого до мировой войны. Разве не отправляли со смущенным видом в примечания мощные комплексы индийской и китайской культуры и не игнорировали вообще великие американские культуры на том основании, что им недостает «связи» (с чем)? Это наша «всемирная история». Так думает негр, который делит весь мир на свою деревню, свое племя и «остаток» и который считает луну значительно меньшей, чем поглощающие ее облака.
Ознакомительная версия.