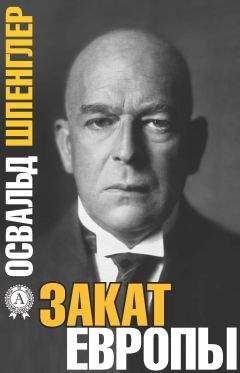Ознакомительная версия.
Теперь понятен последний смысл этого знаменательного факта. История есть не что иное, как образ души; поэтому в творимой и в «созерцаемой» истории господствует одинаковый стиль. Античная математика исключает символ бесконечного пространства; его исключает, следовательно, также античная история. Предназначение и бесконечное мировое пространство, случай и материальная близость и осязательность тел – это тесно связывается одно с другим. Недаром сцена античного существования есть наименьшая из всех – отдельный полис. Ему недостает горизонта и перспектив – несмотря на эпизод похода Александра; в этом отношении он совершенно подобен сцене аттического театра с плоской замыкающей ее стеной. Сравните со всем этим функциональные и бесконечно малые факторы нашей политики, кабинетную дипломатию или «капитал». В своем космосе эллины знали только передний план природы, и только его они считали действительным, всем своим существом отклоняя вавилонскую астрономию звездного неба; у них были только домашние, городские и полевые боги, но не было богов небесных светил; в соответствии с этим они рисовали также только передние планы. Никогда в Коринфе, Афинах или Сикионе не создавался пейзаж с горными цепями на горизонте, плывущими облаками, далекими городами. На всех вазах мы находим только эвклидовские обособленные и самоудовлетворенные фигуры. Всякая группа на фронтоне храма построена по принципу сложения, а не контрапункта. Но и переживали также только то, что было на переднем плане. Судьбой было то, что с кем-нибудь внезапно приключалось, а не «течение жизни», и таким образом наряду с фресками Полигнота и геометрией платоновской Академии Афины создали трагедию судьбы совсем в духе опороченной «Мессинской невесты». Совершенно бессмысленный, слепой фатум, воплощенный, например, в проклятии, тяготевшем над Атридами, выражал для неисторической античной души весь смысл ее мира.
17.
Несколько рискованных, но все же не могущих быть превратно понятых примеров могут послужить к разъяснению моей мысли. Представьте себе, что Колумб получил бы поддержку от Франции, а не от Испании, Одно время это было даже вполне правдоподобно. Франциск I, как государь Америки, несомненно, получил бы корону вместо испанца Карла V. Эпоха раннего барокко, от Sacco di Roma до Вестфальского мира, – это (по своей религии, духу, искусству, политике, нравам) испанское столетие, послужившее во всех отношениях основой и предпосылкой эпохи Людовика XIV, – центром своего развития имела бы не Мадрид, а Париж. Вместо имен Филиппа, Альбы, Сервантеса, Кальдерона, Веласкеса мы называли бы теперь великих французов, которые – пусть это труднопостижимое будет выражено таким образом – остались неродившимися. Церковный стиль, который был тогда окончательно определен испанцем Игнатием Лойолой и Тридентским собором, находившимся под его духовным влиянием; политический стиль, установленный испанским военным искусством, кабинетной дипломатией испанских кардиналов и придворным духом Эскориала вплоть до Венского конгресса и даже в существенных чертах вплоть до Бисмарка; архитектура, живопись, церемониал, знатное общество больших городов – все это было бы тогда представлено другими выдающимися представителями дворянства и духовенства, другими войнами вместо войн Филиппа II, другим архитектором вместо Виньолы, другим двором. Случай сообщил испанский облик эпохе зрелости Западной Европы; внутренняя логика эпохи, которая должна была найти свое завершение в Великой Революции – или в событии, аналогичном по своему значению, – осталась бы этим не затронутой.
Французская революция могла бы в действительности быть заменена событием иного рода, которое произошло бы в другом месте, например в Германии. Ее идея (как мы увидим позже) – переход культуры в цивилизацию, победа неорганического мирового города над органической страной, которая становится теперь «провинцией» в духовном смысле, – была необходима, и именно в этот момент. Сюда должно быть применено слово эпоха в старом, в настоящее время стершемся (смешиваемом с периодом) смысле. Историческое событие делает эпоху: это значит, что оно отмечает в организме культуры необходимую, предначертанную судьбой стадию. Само событие, кристалл, отложившийся на исторической поверхности, могло бы быть заменено аналогичным другим событием; эпоха необходима и предопределена. Является ли событие эпохой или же эпизодом в отношении к какой-нибудь культуре и ее развитию, это, как мы видим, связано с идеями судьбы и случая и далее – с различием эпохиальной западной и эпизодической античной трагедии.
Далее, можно различать анонимные и личные эпохи в зависимости от физиогномического типа их исторического образа. Первая часть указанной выше эпохи – революции (1789–1799) – была совершенно анонимна, вторая – наполеоновское время (1799–1815) – в высшей степени лична. Необычайная сила этого явления обусловила совершение в несколько лет того, что соответствующая античная эпоха (386–322) совершала расплывчато и неопределенно в течение целых десятилетий путем «подземных отложений». Характерной чертой органического строения всех культур, первофеномена является наличие во всех стадиях почти одинаковой возможности осуществить неизбежное в образе великой личности (Людовик XIV, Цезарь), великого анонимного факта (Пелопоннесская и Тридцатилетняя войны) или морфологически неотчетливого развития (эпоха диадохов, война за испанское наследство). Какая форма имеет вероятность – это уже вопрос исторического (трагического) стиля.
История как она развертывается перед фаустовским взором в виде картины мира осуществляет свои эпохи в личной или анонимной форме – безразлично; трагедия стремится к личной форме, как символически более значительной. Поэт стал бы искать воплощения революции в яркой личности, например Дантоне. Наши драмы – драмы отдельных характеров. «Избирательное сродство» Гете представляет редкое исключение. Трагический характер есть характер, творящий эпоху (Вертер, например). Античных «характеров» соответствующего значения, следовательно, не существует.
Каждая подлинная эпоха означает также подлинную трагедию, однако в нашем, а не античном смысле. Парсифаль, Дон Кихот, Гамлет, Фауст суть такие трагедии, резюмирующие в одном характере целый исторический кризис, и поэтому каждую великую трагедию нашей культуры в противоположность всякой античной трагедии, непременно неисторической и мифической, мы вправе назвать исторической, хотя бы ее фабула являлась плодом свободной фантазии; в противном случае она оказывается «жанром», как у Шиллера и Альфиери. Шекспировский Цезарь умирает в третьем акте. Эта трагедия изображает эпоху, и поэт чувствовал – совершенно бессознательно, само собой разумеется, – что эмпирическая личность является только символом, играет чисто поверхностную роль. Поэтому действие кончается только там, где кончается эпоха, а не чувственное бытие ее носителя. Цезарь в некотором более глубоком смысле пал только под Филиппами, именно – в лице Брута, который выполнил свою миссию, тогда как Антоний, наследник Цезаря в смысле переднего плана истории, создал в Александрии новую эпоху, которая началась под Филиппами и нашла свое завершение в драме у Акциума. Но шекспировский Цезарь принадлежит нашей, а не античной картине мира. Античная история, подобно античной трагедии, сама по себе эпизодична и не может быть разделена на эпохи.
Рассмотрим трагедию Наполеона. Его назначением было утверждение западноевропейской цивилизации. Он означает то же, что Филипп и Александр, которые на месте эллинской культуры создали эллинизм, так что в обоих случаях решающее значение среди поверхностных исторических явлений принадлежит не конвенту и гильотине, не остракизму и голосованиям на агоре, не журнальным и риторическим жестам, характерным для времени Руссо, Вольтера, Аристофана и Сократа, но великим полям сражений, разбросанным по всей Европе, с одной стороны, и территории древнего персидского царства – с другой.
Трагизм жизни Наполеона – еще не раскрытый поэтом достаточно значительным, чтобы его понять и воплотить в художественном образе, – заключался в том, что, расходуя все свои силы на борьбу с английской политикой, служащей наиболее ярким выражением английского духа, он именно благодаря этой борьбе обеспечил победу английского духа на континенте, так что этот дух в лице «освобожденных народов» нашел достаточно сил, чтобы осилить Наполеона и заставить его умереть на о. Св. Елены. Английский дух произошел из пуританства поколения Кромвеля, который призвал к жизни британскую колониальную систему; начиная со сражения у Вальми, значение которого было понято одним только Гете, как это доказывают его знаменитые слова вечером на поле битвы, при посредстве таких по-английски вышколенных умов, как Руссо и Мирабо, английский принцип стал душою революционных войск, которые были увлекаемы вперед исключительно идеями английской философии. Не Наполеон создал эти идеи, но они создали Наполеона, и, когда он взошел на трон, он должен был дать им дальнейшее распространение, борясь с той единственной силой, именно Англией, которая хотелатого же. Его империя есть произведение английского стиля, воплощенное в жизнь французской кровью. Теория «европейской» цивилизации, западного эллинизма, была выработана в Лондоне Локком, Шефтсбери, Кларком и особенно Бентамом и занесена в Париж Бейлем, Вольтером и Руссо. Под Вальми, Маренго, Иеной, Смоленском и Лейпцигом сражались во имя этой Англии парламентаризма, деловой морали и журнализма, и во всех этих битвах английский дух одержал победу – над французской культурой Западной Европы. У первого консула отнюдь не было плана подчинить Западную Европу Франции; скорее, он хотел – мечта Александра на пороге всякой цивилизации! – заменить английское колониальное государство французским и тем самым создать неуязвимую основу для политически-военного превосходства Франции над областью западно-европейской культуры. Получилось бы государство Карла V, в котором не заходило солнце, с центром в Париже – наперекор Колумбу и Филиппу II, – но уже не церковно-рыцарское, а экономически-военное. В этой мере – может быть – в миссии Наполеона была заключена судьба. Но Парижский мир 1763 года уже решил вопрос не в пользу Франции, и грандиозные планы Наполеона каждый раз рушились вследствие какой-нибудь незначительной случайности: в первый раз, у Акры, – благодаря двум вовремя высаженным английским десантам; затем, после Амьенского мира, когда он владел всей долиной Миссисипи вплоть до области Великих озер и завязал сношения с Типпо Сахибом, который защищал тогда Ост-Индию против англичан, – вследствие неудачной морской диверсии своего адмирала, вынудившей его отказаться от тщательно подготовленного предприятия; наконец, когда, затевая новую экспедицию на Восток, он сделал Адриатическое море французским благодаря захвату Далмации, Корфу и всей Италии и вел переговоры с шахом персидским относительно совместных действий против Индии, и эта его затея не удалась благодаря капризу императора Александра, который в иные моменты предпринял бы поход против Индии с несомненным успехом. Только после крушения всех внеевропейских комбинаций Наполеон в своей борьбе против Англии остановился в качестве ultima ratio [11] на присоединении Германии и Испании, стран, в которых его же собственные английско-революционные идеи оказались оружием против своего проводника; тем самым он совершил шаг, который сделал его самого ненужным.
Ознакомительная версия.