Виталий Тренев
Бриг «Меркурий»
Рассказы
(Русско-турецкая война 1829 года)
Фрегат «Штандарт», бриг «Орфей» и восемнадцатипушечный бриг «Меркурий» были посланы к Босфору от эскадры линейных кораблей адмирала Грейга, находившейся у Сизополя. Задачей этих дозорных судов было следить за движениями турецкого флота.
Вечерело. После жаркого и тихого майского дня потянуло холодком. С норда набежал ветер, и гладкое бледноголубое море, весь день неподвижно дремавшее, сверкая под горячим солнцем, двинулось, потемнело.
Крутая волна заплескала в высокий темный борт «Меркурия». Паруса вздулись, натянулись шкоты и фалы[1]. Бриг накренился. Вдоль бортов, зашумев, побежали, пенясь и отставая, отвалы темнозеленой воды. Судно прибавляло ход. Вдали, почти на горизонте, лиловел далекий Анатолийский берег. Между ним и бригом, как белые птицы, неслись «Орфей» и «Штандарт». Корабли шли в виду берегов развернутым строем с интервалами в одну милю. На «Меркурии» вахтенные матросы прятались от засвежевшего ветра между орудиями с наветренного борта. Капитан брига лейтенант Казарский и вахтенный начальник лейтенант Скарятин, поеживаясь, стояли на юте[2]. Казарский глянул на небо, стараясь угадать, какая будет ночью погода.
Небо было безоблачно и огромно. Солнце клонилось к потемневшему морю. Прозрачное тонкое стекло неба на западе плавилось и пламенело. В зените оно было еще темноголубое, глубокое, почти синее, а на востоке — прозрачно-зеленоватое; оно тускнело на глазах, переходя в сиреневые, сумеречные тона.
— Задувает свежачок, Александр Иванович. Как говорится, привет из любезного отечества.
— К утру уляжется, — коротко отвечал Казарский.
— Васютин, шинель! — крикнул Скарятин.
— Есть, ваше благородие!
Из-за пушки бомбой вылетел белокурый крепыш-матрос и с топотом стремглав бросился к трапу.
— Что это вы, батенька? Ведь май на дворе! — усмехаясь, спросил Казарский.
— Май-то май, а шинель надевай, весело отвечал румяный, жизнерадостный Скарятин.
На ют поднялись лейтенант Новосельский, мичман Притупов и переводчик, грек Христофор Георгиевич, три дня тому назад поступивший на бриг.
— Эка благодать, господи прости! — картавя, сказал Новосельский и набрал полную грудь влажного, терпкого морского воздуха. — А мы как проклятые в каюте сидели.
Лейтенант был не в духе. Он проиграл греку семь рублей. Христофор Георгиевич, не без пользы проводивший время в кают-компании, довольно щурился, раздувая ноздри, и шевелил черными огромными усами.
Бриг начало покачивать на нарастающей бойкой волне.
Казарский, высокий блондин со строгой осанкой и серьезным узким лицом, поглядел на переводчика.
— Качки не боитесь. Христофор Георгиевич? — спросил он.
— О! Нету, нету! — заторопился грек. — Ми много-много моря плавала. Ми море знаем. Наша Греция — куругом, куругом море есть.
— У них, Александр Иванович, в Греции, все капитаны, — подмигивая сказал Скарятин.
Христофор Георгиевич с опасением глянул на лейтенанта, допекавшего его шутками. Казарский, пряча сдержанную улыбку на тонких губах, поднес к глазу зрительную трубу.
— Все шутить изволите, господин лейтенант, — недовольно процедил Новосельский, мизинцем трогая зуб, который начинал ныть.
— Смеяться, Федя, не грешно над тем, что кажется смешно, — отвечал Скарятин, кивая на коренастую фигурку переводчика.
— Вона, вона! Эх! Эх! — закричал Притупов. — Господа, дельфины!
Все, кроме вахтенного начальника и Канарского, подошли к борту. От брига и высоких парусов на море ложилась тень. Вода в тени была темная, сине-зеленая, но прозрачная. Торопливые крутые волны, рассыпаясь белой пеной, одна за другой отставали от брига. Между волнами, в воздухе, мелькнула черная круглящаяся спина, острый плавник, сверкнуло белое брюхо.
Одна за другою проносились под водою быстрые тени. Гладкие, тугие тела вылетали на поверхность и уходили вглубь.
— Эвона! Эвона! Эх, эх! Красота! — восхищенно покрикивал Притупов.
— Кефаль, кефаль! Они кефаль гонят! — закричал грек, указывая вперед.
Серебром сверкающая кефаль стайкой прошла под киль брига. Скарятин не выдержал, подошел глянуть за борт.
— Кефальчики, толстячки! — с умилением сказал он, причмокивая полными яркими губами.
— Поохотиться бы, господа, а? — оживившись, сказал Новосельский, забывая про ноющий зуб. — Господин капитан, разрешите?
— Что ж, пожалуй, — отвечал Казарский.
— Васютин, ружья тащи! — радостно закричал Скарятин, но, вспомнив, что он на вахте, нахмурился и, отойдя к нактоузу[3], сердито закричал на вахтенных: — Вперед смотреть!
Расторопный Васютин, неистово топоча, уже тащил на ют ружья и заряды.
Притупов и Новосельский сделали несколько выстрелов. Движения дельфинов были очень быстры, а кроме того, обманывало преломление света в воде, и офицеры промахнулись. Переводчик с вожделением поглядывал на стрелков, не решаясь попросить ружье.
— Мазилы! — не утерпев, сказал Скарятин. — Вы штурмана позовите. Он промаха не даст.
— Верно! — Притупов положил ружье. — Где он? Господин поручик! Прокофьев!
— Он письмо невесте пишет, — сказал Новосельский и, скривив красивое лицо, схватился за щеку. — Ой, проклятый зуб! Не даст мне спать сегодня — чувствую, что не даст!
Лейтенант был мнителен и боялся боли. Скарятин посмотрел вверх, на высоко к небу вздымавшиеся паруса, и засмеялся.
— Ох, любовь, ну и любовь! С каждой стоянки мешок писем отправляет. А предмет стоит того.
— Варвара Петровна — девица просто прелесть, — задумчиво сказал Притупов.
— Господа, господа! — укоризненно сказал Казарский.
Скарятин встрепенулся, покраснел и стал в подзорную трубу осматривать горизонт.
— Господин лейтенант, — решился наконец переводчик, — позвольте ружье, дельфина стрелять.
— Промахнетесь, любезный, — холодно сказал Новосельский.
— Пробовать надо!
Христофор Георгиевич взял ружье, и когда круглая, блестящая спина дельфина выскочила из воды, грянул выстрел, дельфин ухнул в воду, вода запенилась от его судорожных движений и окрасилась кровью.
— Ого! — сказал Притупов, с уважением взглядывая на толстенького человечка, лицо которого покраснело и светилось гордостью.
— Довольно, господа, — сказал Казарский, — на фрегате сигнал. Что там, Нестеренко? — обратился он к сигнальщику.
— Прибавить парусов и держать линию — отстаете.
Казарский густо покраснел и, отворачиваясь, сказал Скарятину:
— Распорядитесь, Сергей Александрович.
Парусов прибавили с быстротой почти волшебной.
Лейтенант Казарский тринадцати лет от роду поступил во флот волонтером, видал виды. Он был образованный, опытный и заслуженный моряк, отличившийся при взятии Анапы и Варны. У подчиненных он пользовался уважением и безграничным авторитетом. Судно его было в идеальном порядке, команда натренирована и вышколена великолепно. Упрек командующего эскадрой глубоко задел лейтенанта.
По окончании маневра Скарятин подошел к командиру и сказал сочувственно:
— Конечно, «Штандарт» и «Орфей» лучшие во всем флоте ходоки, но и то надо принять в расчет, что «Меркурий» с самого построения не кренговали[4]. На днищах, небось, борода фута на три. Какой тут может быть ход?
— Да, обросли изрядно. Это влияет на скорость, — отрывисто ответил Казарский.
Смеркалось быстро. В небе затеплилась первая робкая звезда. Ветер немного упал. На западе небо погорело золотыми тонами и теперь, потухая, еще сияло бледным серебром, а с востока небо и море уже окутывал ночной сумрак.
Судно, с плеском и шорохом рассекая воду, резво шло прежним курсом. Высоко в небо над головой уходили ярусы парусов. На баке колокол пробил склянки.
— Охо-хо! — вздохнул Новосельский. — Пошли в кают-компанию, господа. Посидим до спуска флага. Боюсь, как бы зуб не застудить.
Офицеры ушли. Ночь прошла без происшествий, если не считать, что два раза меняли курс, по сигналу с фрегата. В исходе четвертой склянки на юте появился Новосельский, чтобы сменить Скарятина, стоявшего с двенадцати до четырех. Небо и море, по которому бежали хлопотливые некрупные волны, были пепельного, серого тона. В небе еще виднелось несколько бледных, как будто сонных звезд. На востоке над горизонтом протянулись длинные темносерые облака, и между ними и морем желтела узкая щель.
Казалось, что из нее задувает ровный и спорый ветерок, за ночь изменивший направление. В этот сонный, предрассветный час море пахло особенно пряно и живительно.

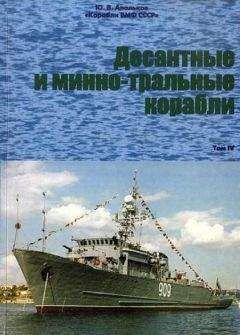
![Михаил Горбунов - Белые птицы вдали [Роман, рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149477/149477.jpg)


