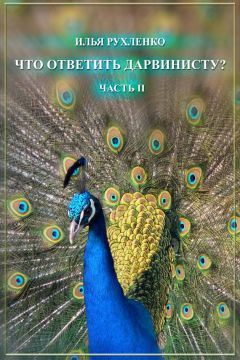Пайпс Ричард
Россия при старом режиме
Посвящается Даниэлю и Стивену
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Мне очень приятно, что «Россия при старом режиме» делается доступной хотя бы для небольшой части русской аудитории. Мне всегда хотелось думать, что я работаю в рамках русской историографической традиции и обращаюсь в первую очередь к русскому читателю. Не знаю, право, пожелал ли бы я посвятить более тридцати лет жизни изучению истории России и писанию работ на эту тему, не питай я надежды, что рано или поздно смогу найти выход на аудиторию, для которой прежде всего предназначались мои исследования.
С момента первого появления книги в 1974 г. некоторые рецензенты, особенно русского происхождения, высказали на ее счет ряд критических замечаний, на которые я хотел бы сразу же вкратце ответить.
Согласно одним критическим отзывам, мое изложение эволюции русского политического устройства слишком односторонне, слишком «гладко» в том смысле, что я, по словам этих критиков, уделил недостаточно внимания сопротивлению общества поползновениям вотчинного государства. В ответ на такое обвинение я могу лишь заметить, что существует уже обширная превосходная литература о борьбе русского общества против самодержавия, тогда как, насколько я знаю, моя книга впервые подробно разбирает иную сторону этого процесса, а именно рост государственной власти в России. Каждый, имеющий хотя бы самые минимальные познания в области русской истории, знаком с Радищевым, с декабристами, с Герценом, с «Народной волей». Однако многие ли, даже среди профессиональных историков, слыхали об Уголовном уложении 1845 г. или о «Временных законах» от 14 августа 1881 г., которые, возможно, наложили еще более глубокий отпечаток на ход исторического развития? Спору нет, сопротивление русского общества самодержавию получает у меня поверхностное освещение, но толковать это следует не как безучастие с моей стороны, а как результат решения придерживаться главного предмета книги, то есть роста русского государства и его способности отражать нападки на свою власть внутри страны.
Иные критики поставили под сомнение разумность моего решения завершить изложение 1880-ми годами, вместо того, чтобы довести его до 1917 г. Причины этого решения разбираются в Предисловии к английскому изданию и обсуждаются еще более подробно в завершающей главе книги. Могу еще добавить, что я начал работу над продолжением «России при старом режиме», а именно над двухтомной «Историей русской революции», которую я поведу с конца XIX в., примерно с того времени, на котором обрывается настоящая книга.
Бессмысленно, да и просто недостойно, отвечать тем критикам, которые усматривают в моих работах враждебность по отношению к России и к русским людям. В истории русского общественного мнения выстраивается долгая череда горячих патриотов, которые страстно изобличали изъяны в психологии своего народа и в учреждениях страны, но притом любили Россию ничуть не меньше других. Моя книга укладывается по большей части в рамки западнической, или «критической» традиции русской мысли, которая уходит своими корнями глубоко в толщу русской культуры по крайней мере со времени Петра I. Более того, в моей книге нет ничего, отдаленно напоминающего пессимизм Чаадаева, Гоголя, Чехова или Розанова. Я отдаю себе отчет в том, что русские люди, критически отзывающиеся о России, менее уязвимы обвинениям в антирусских настроениях, чем высказывающие подобные же взгляды иноземцы. Но ведь это проблема чисто психологическая, а не интеллектуальная: я никак не могу принять довода о том, что критическое отношение, если оно высказывается посторонним, изобличает какую-то враждебность. Каждый, кто прочтет мою книгу беспристрастно, обнаружит, что я особо подчеркиваю влияние природной среды на ход русской истории и отношу многие его моменты на счет сил, неподвластных населению страны.
«Россия при старом режиме» имеет свой тезис. Я не выдумывал его; тезис этот вырисовывался все более и более выпукло по мере моего углубления в разнообразные стороны русской истории. Мои изыскания убедили меня в основательности так называемой «государственной школы», и мое принципиальное расхождение с нею состоит в том, что если ее ведущие теоретики второй половины XIX в. склонны были усматривать в некоторых явлениях лишь относительно маловажные и, возможно, преходящие отклонения от западноевропейской модели развития, я, современник событий, произошедших после 1917 г., скорее смотрю на них как на явления более значительные и непреходящие. Мои трактовки, излагаемые на последующих страницах, выросли из обработки исторического материала на протяжении многих лет. Лучше всего будет пояснить, как я пришел к своим выводам, процитировав строки из «Записных книжек» английского писателя и ученого Самуэля Батлера:
Я никогда не позволял себе выдвигать какой-либо теории, покуда не чувствовал, что продолжаю наталкиваться на нее, хочу я того или нет. Пока можно было упорствовать, я упорствовал и уступал лишь тогда, когда начинал думать, что смышленые присяжные с умелым руководством не согласятся со мной, если я стану упорствовать дальше. Я сроду не искал ни одной из своих теорий; я никогда не знал, каковы они будут пока не находил их; они отыскивали меня, а не я их.
Мне хотелось бы выразить глубокую признательность переводчику книги Владимиру Козловскому, подсказавшему мне идею ее издания по-русски и самоотверженно потрудившемуся над этим точным и изящным переводом.
Ричард Пайпс Кембридж, Массачусетс. Октябрь 1979 г.
Предметом этой книги является политический строй России. Книга прослеживает рост российской государственности от ее зарождения в IX в. до конца XIX в. и параллельное развитие основных сословий — крестьянства, дворянства, среднего класса и духовенства. В ней ставится следующий вопрос: почему в России, в отличие от остальной Европы,— к которой Россия принадлежит в силу своего местонахождения, расы и вероисповедания,— общество оказалось не в состоянии стеснить политическую власть какими-либо серьезными ограничениями? Я предлагаю несколько ответов на этот вопрос и затем пытаюсь показать, как оппозиция абсолютизму в России имела тенденцию обретать форму борьбы за какие-то идеалы, а не за классовые, интересы, и как царское правительство в ответ на соответствующие нападки разработало административные методы, явно предвосхитившие методы современного полицейского государства. В отличие от большинства историков, ищущих корни тоталитаризма XX века в западных идеях, я ищу их в российских институтах. Хотя я время от времени упоминаю о более поздних событиях, мое повествование заканчивается в основном в 1880-е годы, ибо, как отмечается в заключительной главе, ancien regime в традиционном смысле этого выражения тихо почил в Бозе именно в этот период, уступив место бюрократическо-полицейскому режиму, который по сути дела пребывает у власти и поныне.
В своем анализе я делаю особый упор на взаимосвязь между собственностью и политической властью. Акцентирование этой взаимосвязи может показаться несколько странным для читателей, воспитанных на западной истории и привыкших рассматривать собственность и политическую власть как две совершенно различные вещи (исключение составляют, разумеется, экономические детерминисты, для которых, однако, эта взаимосвязь везде подчиняется жесткой и предопределенной схеме развития). Каждый, кто изучает политические системы незападных обществ, скоро обнаружит, что в них разграничительная линия между суверенитетом и собственностью либо вообще не существует, либо столь расплывчата, что теряет всякий смысл, и что отсутствие такого разграничения составляет главное отличие правления западного типа от незападного. Можно сказать, что наличие частной собственности как сферы, над которой государственная власть, как правило, не имеет юрисдикции, есть фактор, отличающий западный политический опыт от всех прочих. В условиях первобытного общества власть над людьми сочетается с властью над вещами, и понадобилась чрезвычайно сложная эволюция права и институтов (начавшаяся в древнем Риме), чтобы она раздвоилась на власть, отправляемую как суверенитет, и власть, отправляемую как собственность. Мой центральный тезис состоит в том, что в России такое разделение случилось с большим запозданием и приняло весьма несовершенную форму. Россия принадлежит par excellence к той категории государств, которые политическая и социологическая литература обычно определяет как «вотчинные» [patrimonial]. В таких государствах политическая власть мыслится и отправляется как продолжение права собственности, и властитель (властители) является одновременно и сувереном государства и его собственником. Трудности, с которыми сопряжено поддержание режима такого типа перед лицом постоянно множащихся контактов и соперничества с Западом, имеющим иную систему правления, породили в России состояние перманентного внутреннего напряжения, которое не удалось преодолеть и по сей день.