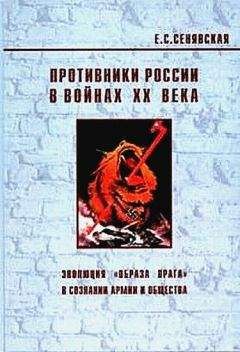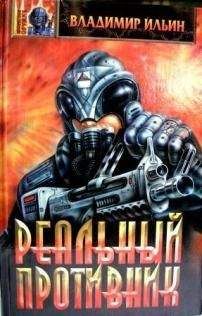А обстановка продолжала накаляться. В январе 1904 г., понимая, что война начнется в самое ближайшее время, адмирал Е.И.Алексеев обратился к царю с просьбой объявить мобилизацию на Дальнем Востоке. 12 января Николай II разрешил перевести на военное положение крепости Порт-Артур и Владивосток, но начать общую мобилизацию запретил, вновь заявив о том, что «желательно, чтобы японцы, а не мы открыли военные действия».[66]
Утром 25 января Алексеев получил телеграмму о разрыве дипломатических отношений с Японией (командиры японского флота узнали об этом на два дня раньше!), а 26 января японская эскадра атаковала русский крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец», стоявшие на рейде в Сеуле для охраны русской дипломатической миссии. Отвергнув предложение неприятеля сдаться, русские моряки приняли неравный бой, а когда стало ясно, что прорваться и уйти к своим невозможно, офицеры приняли решение свезти личный состав на берег, а корабли затопить.[67] Несколькими часами позже, в ночь на 27 января, японские миноносцы внезапно напали на русскую эскадру на внешнем рейде у Порт-Артура. Так началась эта полуторогодовая, неудачная для России, завершившаяся позорным Портсмутским миром и первой русской революцией, трагическая по своим последствиям война.
Что же произошло? Почему Россия оказалась неподготовленна к ней? И какую роль сыграли здесь психологические факторы, в частности, формирование образа врага?
Безусловно, особое место в этом процессе занимал «изначальный», сформированный еще в мирной жизни стереотип восприятия Японии и японцев как противника, представлявшего этнически, культурно, религиозно чуждую, «иную» цивилизацию. Нужно учитывать, что эти стереотипы формировались у определенного субъекта восприятия, а именно: у людей, принадлежавших к специфической российской цивилизации, преимущественно восточных европейцев-славян, православных по вероисповеданию и культуре. Эти штампы восприятия сводились в основном к нескольким обобщенным представлениям о японцах как «азиатах», язычниках, а значит, не просто «других», но еще и отсталых, «дикарях», варварах.
Не случайно все эти негативные штампы, во время войны многократно усиленные естественной враждебностью по отношению к противнику, к тому же вероломно напавшему (как «азиаты»!), находили отражение как в публично выражаемых, так и в частных оценках в пренебрежительной и даже оскорбительной форме. Причем оценки эти делались людьми самого разного общественного положения и культурного уровня и нашли отражение в политических документах, в письмах, дневниках, воспоминаниях, художественной литературе и даже в фольклоре.
Как к «макакам» относился к японцам и сам император Николай II, ненависть которого была вызвана, в частности, тем, что, еще будучи наследником престола, он посетил Японию, где подвергся нападению фанатика и был ранен мечом в голову. Как к «макакам» относилось к ним и следовавшее за императором «высшее общество», и генералитет, и офицерство, и даже солдатская масса. Естественно, армия заимствовала это отношение у «гражданского» общества.
В «высшем обществе» на восприятие японцев оказывала влияние еще и принадлежность к основным политическим группировкам. Их было две. Одна из них, заинтересованная в колониальной экспансии России в Корею и Маньчжурию и, соответственно, в выведении из игры основного конкурента, которым была Япония, выступала за решительные «инициативные» действия, за агрессивный курс на Дальнем Востоке. Эта группировка получила название «безобразовской клики» (по имени члена особого комитета по делам Дальнего Востока А.М.Безобразова). В ее состав входили лица весьма влиятельные: великий князь Александр Михайлович, контр-адмирал А.М.Абаза, М.В.Родзянко, И.И.Воронцов, В.К.Плеве и др..[68]
Позицию этой группировки, в которой как раз и отразилось неадекватно стереотипное, пренебрежительное отношение к потенциальному противнику, наиболее рельефно обозначил министр внутренних дел и шеф жандармов В.К.Плеве. «Поверьте мне, — заявлял он, — что нам маленькая победоносная война необходима, иначе нам внутри России будет грозить беда».[69] Войну с Японией он представлял только так: как «маленькую» и обязательно «победоносную».
Более адекватен в своих оценках был принадлежавший к той же группировке адмирал Е.И.Алексеев — наместник императора на Дальнем Востоке. Он приходил к тому же выводу о необходимости первыми начать войну против Японии, но исходя из совершенно иных посылок: адмирал был хорошо осведомлен о действительной обстановке в этом регионе и реальной силе японцев, а также о фактической неизбежности войны и готовности противника напасть первым. Не случайно именно он был одним из немногих, кто настаивал на серьезной подготовке к войне.
К противоположной группировке принадлежал генерал А.Н.Куропаткин. В начале осени 1903 г. он посетил Страну Восходящего Солнца, после чего уверял всех в неподготовленности японцев к войне, при этом их вооруженные силы недооценивались до такой степени, что вступление Японии в борьбу с «русским колоссом» считалось невероятным.[70] Согласно его собственным дневниковым записям, на обеде у императрицы, куда он был приглашен, разговор зашел о военном положении России. Куропаткин заметил, что «оно далеко не блестяще, нет денег, все поглощает Дальний Восток, в чем большая ошибка», и призывал все внимание обратить на Запад, где «зреет главная опасность». Александра Федоровна не соглашалась, заявляя, что именно на Востоке «может вспыхнуть война, и мы должны быть сильны», что до Европейской войны в ближайшие несколько лет не допустят, и что «сейчас страшна желтая раса». Не сумев выиграть этот спор, Куропаткин записал в дневнике: «Буду бороться, дабы увлечение Дальним Востоком не принесло России вреда…».[71]
И именно этот человек, не сумевший разглядеть угрозы со стороны Японии, впоследствии, с началом войны, станет командующим Маньчжурской армией, а с 13 октября 1904 г. по 3 марта 1905 г. — главнокомандующим вооруженными силами на Дальнем Востоке. Лишь после поражения под Мукденом он будет смещен и назначен вновь командовать армией.
Неадекватные оценки потенциального противника накануне войны привели к тому, что вооруженные силы России на Дальнем Востоке в несколько раз уступали по численности японским. Так, в октябре 1903 г. на все требования Штаба Квантунской армии, в столь тревожной обстановке располагавшей в Квантуне всего двадцатью тысячами войск, прислать подкрепления, Главный Штаб отвечал, что «при исчислении сил нужно исходить из отношения, что один русский солдат соответствует четырем японским».[72]
Да и сам Николай II, который еще летом 1903 г. в беседе с германским морским министром адмиралом Тирпицем, убеждавшим его от имени своего императора «принять спешные меры к усилению вооруженных сил на Востоке», утверждал, что «ненавидит японцев, не верит ни одному их слову и отлично сознает всю серьезность положения»,[73] до последнего момента продолжал верить в то, что «макаки» напасть не посмеют.
Такие же пренебрежительно-беспечные настроения существовали и в армии, причем, на восприятие противника оказывало влияние и ее состояние. По записанному в дневнике 21 июля 1904 г. свидетельству дивизионного врача В.П.Кравкова, в русской армии вовсю процветали «интрига, несогласие среди начальствующих лиц, коими назначаются люди не по достоинству, а по протекции и влиянию тетенек, маменек и всех прочих… Хаос в командной части — невероятный… Единодушное мнение компетентных лиц, что война нами ведется преотвратительно и начата без надлежащей организации обоза, снаряжения и проч.».[74]
Эта беспечность, проявившаяся не только перед войной, но и в самом ее ходе, во многом определялась инертностью стереотипа восприятия Японии как противника, заведомо неполноценного и слабого. Недооценка врага отразилась не только на складывании неблагоприятного для России фактического соотношения сил (в живой силе и технике), но и в недостаточном внимании к качеству комплектования личного состава и к назначению командных кадров.
Вскоре после начала военных действий в действующей армии настолько распространились настроения недовольства командованием, что пришлось принимать специальные, порой даже комичные меры. Например, в дневнике В.П.Кравкова содержится такая запись: «Развешаны всюду (на станциях и других местах) плакаты, строго воспрещающие публичную критику действий начальствующих лиц под угрозой больших наказаний».[75]
Как же происходила эволюция восприятия противника в ходе войны? Внесло ли непосредственное соприкосновение с ним (а значит, и приобретение конкретного опыта) какие-либо коррективы в это восприятие?