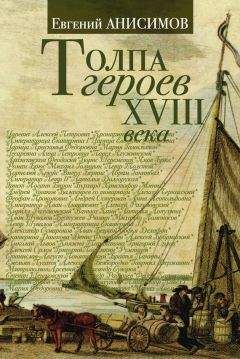Екатерина не была склонна обвинять в происшедшем своих друзей-просветителей, чьи идеи воодушевили Робеспьера и Дантона. 5 декабря 1793 года она писала Гримму: «Французские философы, которых считают подготовителями революции, ошиблись в одном: в своих проповедях они обращались к людям, предполагая в них доброе сердце и таковую же волю, а вместо того учением их воспользовались прокуроры, адвокаты и разные негодяи, чтоб под покровом этого учения (впрочем, они и его отбросили) совершать самые ужасные преступления, на какие только способны отвратительные злодеи. Они своими злодеяниями поработили парижскую чернь: никогда еще не испытывала она столь жестокой и столь бессмысленной тирании, как теперь, и это-то она дерзает называть свободой! Ее образумят голод и чума и тогда убийцы короля истребят друг друга, тогда только можно надеяться на перемену к лучшему».
И хотя императрица поддерживала французскую эмиграцию, принцев крови морально и материально (правда, взаимообразно), она почти не скрывала своего убеждения, что именно развратный Версаль виноват в том, что ящик Пандоры был открыт (как и Петр III сам был виновником своей гибели). Конечно, в этом осуждении видна старая неприязнь преуспевающей провинциалки к бедам столицы мира, но мы теперь знаем, что Бурбоны, ничему не научившиеся и позже, сами бросили гранату под свою софу и бездарной политикой привели страну к катастрофе.
У Екатерины не было иллюзий на их счет («Лекарство от глупости еще не найдено, рассудок и здравый смысл не то что оспа: привить нельзя»). Она полагала, что с прежним абсолютизмом во Франции покончено, что нужно признать существование парламента, дать определенные свободы гражданам, одним словом, жить в новой Франции. Это не означало, что русская самодержица примирилась с тем, что там делалось. Она никогда не путала законопослушный и ответственный народ с толпой, разнузданной чернью и считала, что, пройдя неизбежный этап самоистребления, господства «духа разнузданности», Франция вернется к идее монархии.
13 января 1791 года она писала Гримму, что там неизбежно появится Цезарь и «усмирит вертеп», а 22 апреля, не без остроумия и проницательности, добавляла: «Знаете ли, что будет во Франции, если удастся сделать из нее республику? Все будут желать монархического правления! Верьте мне: никому так не мила придворная жизнь, как республиканцам». Очень жаль, что императрица не дожила до 5 декабря 1804 года – дня коронации Наполеона I. Ее пророчество исполнилось всего через тринадцать лет! Еще она считала, что революционная зараза расползется по Европе, что придет жестокий Тамерлан или Чингисхан, который поглотит ее, а потом явится Россия и всех спасет.
Точно известно, что Нострадамуса царица не читала, а опиралась только на опыт, интуицию и свою силу. Медью звенят ее слова 1790 года в ответ на похвалу Потемкина за ее «неустрашимую твердость»: «Русская императрица, у которой за спиной шестнадцать тысяч верст, войска, в продолжение целого столетия привыкшие побеждать, полководцы, отличающиеся дарованиями, а офицеры и солдаты храбры и верны, не может, без унижения своего достоинства, не выказывать неустрашимой твердости».
Французские события привели Екатерину к одному, но очень важному выводу: надо сделать все, чтобы революционная зараза не проникла в Россию. Именно поэтому в России появляется цензура, на вполне невинного московского издателя масонских трактатов Н. Новикова обрушиваются репрессии, принесшие ему, в отличие от других, не пострадавших издателей, славу выдающегося русского просветителя. Вполне преуспевающий таможенный начальник, но посредственный писатель Александр Радищев попадает, как часто это бывает в России, под очередную «кампанию по борьбе с (против)…» и отправляется в Сибирь. Задрожали и масоны, чьи занятия рационалистка-императрица всегда презирала и над «таинствами» которых беспощадно глумилась. Если раньше императрица вполне снисходительно относилась к критике, то теперь она видит в ней потрясение основ. По поводу выхода в академической типографии пьесы Княжнина «Вадим» на сюжет из новгородской «республиканской» истории она устроила головомойку президенту Академии наук княгине Дашковой, которая, как и императрица, не читала пьесы до печатного станка. «Признайтесь, – обиженно восклицала Екатерина, – что это неприятно… Мне хотят помешать делать добро: я его делала сколько могла и для частных людей, и для страны; уж не хотят ли затеять здесь такие ужасы, какие мы видим во Франции?» Не будем забывать, что на дворе был июнь 1793 года, во Франции в это время Конвент принял драконовские законы против спекулянтов, Марию-Антуанетту разлучили с сыном и начали поспешно готовить постыдный процесс против нее, обвиняя мать в противоестественной связи со своим ребенком… Так что императрицу, дувшую на воду, можно понять – в Париже тоже началось с пьесок и прокламаций.
Екатерина Романовна Дашкова
Что происходило внутри страны? Конечно, особых оснований для паники или даже тревоги не было. Дела шли своим чередом. Россия, победив турок, шведов и поляков, наслаждалась миром. Но без Потемкина уже не было прежнего блеска и осмысленности в политике, все шло, во многом, по инерции. Всеми делами теперь заправлял Платон Зубов. Он получил образование, сыпал мудреными словами, но был пуст и ничтожен, хотя тщетно тужился и надувался, чтобы походить на Потемкина. Другой «чернушка» Валериан Зубов убедил ранее столь здравомыслящую императрицу отправить его во главе армии в фантастический и совершенно бесперспективный поход в Индию и положил бессчетное количество русских солдат при штурмах прикаспийских крепостей. До Индии он, естественно, не добрался.
В том, что именно Платон Зубов оказался наверху, многие видели главное свидетельство разложения и упадка режима. Вот что пишет о последнем временщике Екатерины современник: «По мере утраты государыней ее силы, деятельности, гения, он приобретал могущество, богатства. Каждое утро многочисленные толпы льстецов осаждали его двери, наполняли прихожую и приемную. Старые генералы, вельможи не стыдились ласкать ничтожных его лакеев. Видали часто, как эти лакеи толчками разгоняли генералов и офицеров, коих толпа теснилась у дверей, мешала их запереть. Развалясь в креслах, в самом непристойном неглиже, засунув мизинец в нос, с глазами, бесцельно устремленными в потолок, этот молодой человек, с лицом холодным и надутым, едва удостаивал обращать внимание на окружающих его. Он забавлялся чудачествами своей обезьяны, которая скакала по головам подлых льстецов, или разговаривал со своим шутом; а в это время старцы, под началом у которых он служил сержантом, – Долгорукие, Голицыны, Салтыковы – и все остальные ожидали, чтобы он низвел свои взоры, чтобы опять приникнуть к его стопам». Из всех баловней счастья времен Екатерины II ни один не был так тщедушен и наружно, и внутренне, как Зубов. Как это далеко от мечтаний молодой Екатерины о ее царствовании как эпохе правды, законности, справедливости и милосердия. Сама царица всего этого не видела и не знала, а если и знала, то чего не простишь любимому «дитяти» или «чернушке» – я уже совсем запутался, кто из них кто!..
Шли годы, Екатерина не могла не думать о смерти. Она часто представляла себе свой последний час, но вполне романически, по-книжному. То она завещала похоронить себя в Царском Селе подле урны Ланского, то в Донском монастыре в Москве, то возле Стрельны – в Троице-Сергиевской пустыни, непременно в белой одежде с золотым венцом на голове, сочинила она себе и пространную эпитафию, из которой следует, что она умерла не от скромности. Мечтала она и умереть как-то по-особому: красиво и возвышенно. «Когда пробьет мой час, – писала она, – пусть только будут закаленные сердца и улыбающиеся лица при моем последнем вздохе». Но вышло все не так красиво и торжественно, а даже наоборот…
Незадолго до смерти, осенью 1796 года, произошли два события, плохо сказавшиеся на самочувствии императрицы. В сентябре разразился невиданный для двора Екатерины скандал: неуклюжими действиями Платона Зубова и графа Аркадия Моркова был сорван брак внучки императрицы, прелестной Александры Павловны и юного шведского короля Густава IV, причем произошло это накануне обряда помолвки, когда императрица, невеста и двор собрались в тронном зале и напрасно прождали короля несколько часов. Екатерина была этим потрясена и, как описывает современник, несколько минут оставалась с открытым от изумления и возмущения ртом, а потом в страшном гневе два раза ударила тростью Моркова и Безбородко, сбросила мантию и покинула зал. После этого инцидента императрица разболелась, и не мудрено – она никогда не испытывала подобного унижения.
Второе событие было зловещим. Как-то ночью (царица переехала в любимое ею Царское Село) началась страшная гроза. Это было странно – на дворе стояла глубокая осень. И, глядя на голые деревья парка, стонущие в призрачном свете молний, под ливнем, уже не нужным ни людям, ни земле, Екатерина не могла не вспомнить, что вот также поздней осенью 1761 года началась внезапно ночная гроза, а потом за императрицей Елизаветой пришла смерть. Современник свидетельствует, что это предзнаменование очень напугало Екатерину – женщину, как известно, смелую и отчаянную…