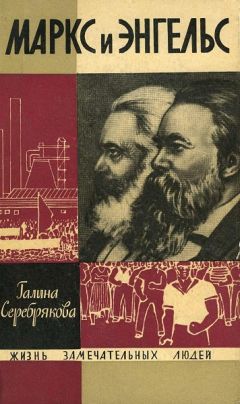- Но-но! Я только один раз мог поддаться на подобные демарши. Второго раза не будет. - Маркс взял Лафарга за руку, посадил. - Запомните: даже неразделенная любовь - великое счастье. Подробнее вам об этом расскажет Энгельс.
- У него была неразделенная любовь? По тому, что я о нем знаю, это трудно представить.
- О нем у многих, даже у тех, кто встречался с ним довольно близко, порой очень превратное представление. Либкнехт и тот однажды назвал его первым грубияном Европы, а между тем у Фреда - уж я-то знаю! - чуткое, любящее сердце... Но вы опять меня перебили. Так вот, если хотите знать, именно "Наброски" Энгельса натолкнули меня на мысль о необходимости заняться политической экономией. Более того, книга, которую я сейчас везу ему в подарок, в зародышевой форме вся содержалась в этих изумительных "Набросках". Да что там говорить! Фред - блистательный ум. А сколько он знает! Это настоящая энциклопедия. Работать же он может в любое время дня и ночи, сразу после плотного обеда и голодный как волк, трезвый и навеселе, да притом соображает и пишет быстро, как черт...
Лафарг уже привык к тому, что старик - многим двадцатипятилетним кажутся стариками те, кто вдвое старше их, - старик нередко употребляет довольно крепкие словечки, и потому "черт" его не удивил.
- Помню, в Кёльне, - продолжал Маркс, - в бурные дни осени сорок восьмого года прокурор Геккер отдал приказ о розыске и аресте Фреда. Приказ был опубликован в верноподданной "Кёльнской газете". Я до сих пор храню этот экземпляр от четвертого октября. Там рядом с приказом приведены еще и приметы Энгельса. Рост, глаза, нос... Все это, в общем, соответствовало истине. Но, представьте себе, прокурор попытался охарактеризовать еще и лоб Фреда. И что, вы думаете, он написал? "Лоб обыкновенный"! Каково, а? Лоб Фридриха Энгельса - обыкновенный!..
Лафарг улыбнулся.
- Вы что смеетесь? - насторожился Маркс. - Тогда я был этим так взбешен, что даже забыл об опасности, грозившей Фреду, и хотел послать прокурору Геккеру вызов на дуэль за оскорбление.
- И послали?
- Да нет... Время было такое, что некоторые номера "Новой Рейнской" мне приходилось готовить самому от первой до последней строки. Словом, так был занят, что не собрался. Но до сих пор жалею!
- Лаура мне рассказывала, что однажды вы все-таки вызвали кого-то на дуэль из-за Энгельса.
- Вы, очевидно, имеете в виду этого сикофанта Мюллер-Теллеринга, который оклеветал Фреда? Нет, девочка преувеличивает. Я только припугнул его дуэлью и пообещал разделаться с ним на ином поле - на поле публицистической борьбы.
Чем дальше Лафарг слушал Мавра, тем сильнее завидовал ему, его дружбе с Энгельсом. Словно угадав его мысли, Маркс вдруг сказал:
- Я ничего вам в жизни так не желаю, Поль, как того, чтобы Лаура, если она станет вашей женой...
- Мавр! Опять ваши "если"! - с необыкновенной легкостью вновь вспыхнул Лафарг.
- Ну, ну, хорошо. - Марксу уже не хотелось возвращаться к прежней теме. - Я желаю, во-первых, чтобы Лаура была вам такой же женой, какой мне всегда была Женни; во-вторых, чтобы судьба послала вам такого же друга, какого она послала мне в Энгельсе: в-третьих, я не могу не пожелать, чтобы у нас с вами сложились такие же отношения, какие были у меня с отцом Женни.
Всю оставшуюся часть пути Маркс, который вот-вот мог стать тестем, рассказывал Лафаргу о своем тесте - старом Вестфалене, человеке большого ума и благородного сердца.
Они ввалились в прихожую с шумом и смехом - Фред, Мавр и Лафарг.
- Лиззи! - воскликнул Энгельс. - Мы с тобой были совершенно правы. Вот тебе "Капитал", - он протянул ей книгу, которую еще на вокзале взял у Маркса и всю дорогу держал в руках.
- Ого! - вырвалось у Лиззи, когда она ощутила тяжесть тома.
- Иначе нельзя было, дорогая миссис Лиззи, - засмеялся Маркс. - Немцы такой народ, что легонькую книжечку они и читать не станут. У них пользуются доверием лишь фолианты в двадцать, сорок, пятьдесят листов. Ну я и накатал почти все пятьдесят.
- А вот тебе Лафарг, - продолжал Энгельс, - соискатель звания супруга Лауры.
Лафарг поклонился и поцеловал руку Лиззи. "Хорош креол! - тотчас отметила она про себя. - Строен, лицо как точеное, а глаза-то... Ну, положим, нашу Лауру тоже из десятка не выкинешь".
- Дорогой господин Маркс! - сказала Лиззи. - Прежде всего я хочу от всего сердца поздравить...
- Э, нет! - воспротивился Энгельс. - Я не могу допустить, чтобы это произошло кое-как, в прихожей. Только за столом, только под звон бокалов!
При слове "бокалов" Маркс вспомнил о подарке Лафарга.
- Фред! Ты посмотри, что тут тебе приготовил мой гипотетический зять, - он взял из рук Лафарга бокал, развернул его и поставил на подзеркальник. - Редчайший сорт хрусталя. А какова работа!
Бокал был действительно отличной работы, но Энгельс, разбиравшийся в подобных вещах несравненно лучше своего неопытного в житейских делах друга, даже не притрагиваясь к бокалу, не щелкая по нему, сразу увидел, что это никакой не хрусталь, а просто хорошее стекло. "Ах, шельмец! весело подумал он о Лафарге, поняв, что это он, конечно, внушил простаку Мавру мысль о хрустале. - Это тебе так не пройдет".
- Очень тронут. Прекрасный бокал! Такой хрусталь я уж и не помню, когда видел.
- А это, миссис Лиззи, - сказал Маркс, доставая из-за спины коробку, - с гонорара за "Капитал"!
Лиззи поблагодарила и открыла коробку. Там лежало прекрасное зеленое платье, купленное в одном из лучших магазинов Лондона.
- Наша старшая дочь потребовала, - сказал Маркс, - чтобы платье непременно было цвета ирландского знамени. Она сама сейчас носит польский крест на зеленой ленте и уверяла меня, что для вас, ирландки, в нынешнюю пору небывалого напряжения борьбы за свободу Ирландии платье зеленого цвета будет особенно приятно. Я ей поверил.
- И не ошиблись, господин Маркс, не ошиблись. - Лиззи действительно было очень приятно.
- Я хочу, - сказал Энгельс, - чтобы ты сегодня украшала наше мужское общество в этом платье.
- Разумеется, - радостно согласилась Лиззи и пошла переодеваться.
- Вот погодите, - шутливо пригрозил Маркс. - Дайте срок, выйдет мой "Капитал" на английском, на французском, а то и на русском, и я сделаюсь богачом. Тогда вы ахнете, увидев, с каким вкусом ваш Мавр может выбирать подарки.
Энгельс знал, что "Капитал" вышел ничтожным тиражом в одну тысячу экземпляров, что гонорар за этот гигантский двадцатилетний труд Маркс получит издевательски мизерный - 60 фунтов; он понимал и то, что издание книги на других языках - дело чрезвычайно сложное и уж наверняка это не принесет Марксу сказочных богатств. Но он видел, что его друг действительно рассчитывает с выходом "Капитала" решительно поправить свои дела, обрести наконец-то - в пятьдесят лет! - полную материальную независимость, - и сердце Энгельса больно сжалось от ясного сознания несбыточности надежд Мавра.
...Праздничное застолье, пожалуй, перевалило уже свою вершину, когда пришел доктор Гумперт, друг Энгельса и Маркса, немец, единственный врач, которому Мавр доверял.
- Вот кстати! - обрадовался Энгельс. - Эдуард, если бы ты знал, какое событие мы сегодня отмечаем... Как ты думаешь, кто этот господин? - он указал на кресло между собой и Марксом, где на высокой подушке стояла прислоненная к спинке, развернутая посредине большая книга. - Этого господина зовут "Капитал". Мы собрались здесь, чтобы отпраздновать его рождение. А он, видишь, сидит как настоящий именинник и от тщеславного удовольствия слегка пошевеливает страницами... Лиззи, бокал! Шампанского!
Пока Лиззи подавала новый прибор, Гумперту представили Лафарга, о котором он, конечно, до этого слышал.
- Мы уже пили за него, - сказал хозяин, - а ты, Гумперт, выпей до дна за этого гениального и ненавистного, долгожданного и трижды проклятого новорожденного.
Гумперт выпил, и Энгельс, воскликнув "Молодец!", продолжал:
- Мне всегда казалось, Мавр, что эта книга, которую ты так долго вынашивал, была главной причиной всех твоих несчастий и что ты никогда не выкарабкался бы, не сбросив с себя этой ноши. Эта вечно все еще не готовая вещь угнетала тебя в физическом, духовном и финансовом отношениях, и я отлично понимаю, что теперь, - Энгельс встал и пошевелил расправленными плечами, - стряхнув этот кошмар, ты чувствуешь себя другим человеком, и мир, в который ты опять вступаешь, кажется тебе уже не таким мрачным, как раньше.
Маркс встал с бокалом в руке:
- Ты сказал, Фред, кошмар... Да, эта книга была для меня высочайшим наслаждением и одновременно диким кошмаром. В жертву ей я принес слишком многое. Но этот кошмар преследовал меня не один, ему всегда сопутствовал другой, не менее ужасный... Ведь только тебе, Фред, я обязан тем, что первый том готов. Без твоего самопожертвования ради меня я ни за что не смог бы проделать огромную работу и по двум остальным томам... Без тебя я никогда не смог бы довести до конца все это циклопическое дело, и - уверяю тебя - мою совесть постоянно именно как кошмар давила мысль, что ты тратишь свои исключительные способности на занятия коммерцией и даешь им ржаветь главным образом из-за меня... Прошу вас, друзья, выпить за моего Фреда.