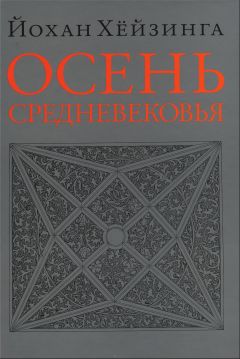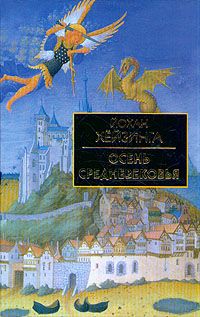Не считая пастушеских стихотворений и разработки мотива раннего весеннего утра в качестве обязательного вступления, едва ли имелась еще какая-либо потребность в изображении природы. Иной раз в повествование может влиться несколько фраз о природе, как мы это видим у Шателлена в описании выпавшей росы (и именно ненамеренная природная зарисовка чаще всего оказывается наиболее впечатляющей). Остается еще пасторальная поэзия, где и следует наблюдать возникновение в литературе чувства природы. Для того чтобы продемонстрировать в общих чертах известный эффект разработки деталей, можно наряду с уже упоминавшимися выше страницами из Алена Шартье предложить в качестве примера стихотворение Regnault et Jehanneton, строками которого венценосный пастух Рене облекает свою любовь к Жанне дё Лаваль. Но и здесь целостное видение картины природы отсутствует, здесь нет единства, которое художник в состоянии придать пейзажу посредством цвета и света; всё это остается лишь прелестным нанизыванием ряда отдельных деталей. Щебечущие птички – одна, сменяющая другую, насекомые, лягушки, наконец, идущие за плугом крестьяне.
Et d’autre part, les paisans au labour
Si chantent hault, voire sans nul séjour,
Resjoyssant
Leurs bœufs, lesquelx vont tout-bel charruant
La terre grasse, qui le bon froment rent;
Et en ce point ilz les vont rescriant,
Selon leur nom:
A l’un Fauveau et à l’autre Grison,
Brunet, Blanchet, Blondeau ou Compaignon;
Puis les touchent tel foiz de l’aiguillon
Pour avancer1261.
A там – крестьяне в поле день-деньской
Без отдыха, поющи за сохой,
Дабы бразды
Быки взрывали рьяней и труды
На ниве тучной принесли плоды;
И оных тех быков на все лады
Они притом
Подбадривают, клича Русаком,
Буланым, Серым, Беляком, Дружком,
Стрекалом тыча в них иль батогом
Гоняя их.
Здесь, пожалуй, есть и свежесть, и некое радостное звучание, но как это бедно в сравнении с изображающими времена года миниатюрами в часословах. Король Рене дает лишь ингредиенты описания природы, в его палитре всего несколько красок, не более. В другом отрывке, описывающем наступление вечера, попытка выразить настроение несомненна. Почти все птицы умолкли, только перепел еще не затих, со свистом кружатся куропатки, ища ночлега; появляются олени и кролики. Чуть дрогнет солнечный блик на высоком башенном шпиле – и вот уже воздух прохладен, пускаются кружить совы и летучие мыши, и маленький колокол часовни звонит к Аве.
Календарные листы Роскошного часослова дают нам возможность сопоставить воспроизведение одних и тех же мотивов в изобразительном искусстве – и литературе. Мы знаем прославленные замки, которые у братьев Лимбург заполняют фон миниатюр, посвященных каждому месяцу. У них есть литературная параллель в стихах Эсташа Дешана. В семи коротких стихотворениях он воспевает замки Северной Франции: Боте, которому позднее суждено было стать местом пребывания Агнессы Сорель, Бьевр, Кашан, Клермон, Ньепп, Норуа и Куси1262. Дешану нужно было бы быть поэтом куда более высокого полета, чтобы добиться того, на что братья Лимбург оказались способны в нежнейших и тончайших творениях искусства миниатюры. На листе, изображающем Сентябрь, мы видим сбор винограда на фоне замка Сомюр, высящегося воплощением грезы: острия башен с флюгерами, фиалы, зубцы, украшенные лилиями, два десятка изящных дымников – всё это расцветает прихотливою клумбой стройных белых цветов в темнеющей воздушной лазури1263. Затем величественный, строгий размах внушительного Лузиньяна на листе, посвященном Марту; мрачные башни Венсена, грозно выделяющиеся над сухою листвой деревьев, – Декабрь1264.
Обладал ли поэт – во всяком случае, этот – равноценными средствами, чтобы вызвать к жизни такие картины? Разумеется, нет. Описание архитектурных форм замка, как, например, в стихотворении, посвященном Бьевру, не может произвести никакого эффекта. Подсчитывание отрад, предлагаемых замком, – это, собственно, и всё, на что способен поэт. В соответствии с природой вещей художник взирает на замок – тогда как поэт, находящийся в замке, разглядывает мир изнутри.
Son filz ainsné, daulphin de Viennois,
Donna le nom à ce lieu de Beauté.
Et c’est bien drois, car moult est délectables:
L’en y oit bien le rossignol chanter;
Marne l’ensaint, les haulz bois profitables
Du noble parc puet l’en veoir branler…
Les prez sont près, les jardins déduisables,
Les beaus preaulx, fontenis bel et cler,
Vignes aussi et les terres arables,
Moulins tournans, beaus plains à regarder.
Дофин же вьеннский, старший сын его1265,
Красой1266 нарек окрестную долину.
Поистине там всё ласкает взгляд,
Там дивну песню слышишь соловьину;
Вкруг замка Марна вьется, шелестят
Деревья щедры, и куда ни кину
Свой взор, зрю пастбище привольно, сад,
Луга, родник, тенистую лощину,
Иль ниву тучную, иль виноград,
Иль мельницы вертящейся домину.
Какое различие в действии по сравнению с миниатюрой! А ведь и в стихах, и в рисунке использован один и тот же метод: суммирование того, что можно видеть (в стихотворении также и слышать). Но взгляд художника неуклонно направлен на определенную, строго очерченную задачу: он должен, пусть даже суммируя, схватить единство, предел и взаимосвязь. Поль Лимбург может совместить на одном листе всё, что несет с собою зима (Февраль): крестьян, греющихся у огня, развешенное для сушки белье, ворон на снегу, овчарню, ульи, бочки и тачку, – и к тому же всё это на фоне обширного зимнего пейзажа с тихою деревенькой и одиноким крестьянским двором на холме. Спокойное единство картины остается нерушимым.
В то же время взгляд поэта блуждает по кругу и не находит успокоения: поэт не знает никакого ограничения и не приходит ни к какому единству.
Форма забегает вперед по отношению к содержанию. В литературе старому содержанию соответствует старая форма, но в живописи содержание – старое, форма же – новая. В живописи форма таит в себе гораздо большие выразительные возможности по сравнению с литературой. Художник в состоянии претворить в форму всю эту невыразимую мудрость: идею, настроение, психологию; он может передать всё это, не будучи вынужден мучиться поисками необходимого языка. Эпоха, о которой здесь идет речь, по преимуществу визуальная. Это объясняет превосходство живописных выразительных средств над литературными; литература, которая также отмечает преимущественно визуальное, поневоле терпит фиаско.
Поэтическое искусство XV в. как будто обходится почти вовсе без новых идей. Мы видим всеобщее бессилие сочинить что-либо новое; происходит лишь обработка, модернизация старого материала. Наступает передышка в мышлении; творческий дух завершил построение здания Средневековья и еле ворочается от усталости. Повсюду запустение и увядание. Люди взирают на мир в отчаянии, всё движется вспять, душу гнетут уныние и тревога. Дешан горестно вздыхает:
Hélas! on dit que je ne fais mes rien,
Qui jadis fis mainte chose nouvelle;
La raison est que je n’ay pas merrien
Dont je fisse chose bonne ne belle1267.
Увы! меня корят, мой дар исчез,
На новое не стало боле сил;
Вина же здесь, что вывелся тот лес,
Из коего я встарь красу творил.
Ничто, как кажется, не свидетельствует сильнее о застое и упадке, чем переделывание рифмованных рыцарских романов и других стихотворных произведений в громоздкую монотонную прозу. И однако, именно dérimage1268 XV в. возвещает переход к новому духу. Это отказ от стихотворной речи как главного выразительного средства, как стилевого выражения средневекового духа. Еще в XIII в. всё можно было высказать в рифму, вплоть до медицины и естественной истории, – так, древнеиндийская литература все науки излагала в стихотворной форме. Стихотворная форма предполагает такой способ передачи сообщения, как чтение вслух. Не индивидуальную по своему характеру, выразительную, эмоциональную декламацию, но равномерное чтение нараспев, как это имеет место в эпохи, где литература находится на более примитивной ступени и стихи почти что поются в неизменной, традиционной манере. Вновь возникшая потребность в прозе означала поиски выразительности и зарождение современных навыков чтения в противоположность прежней напевной манере. В этой же связи находится распространяющееся подразделение излагаемого материала на небольшие главы с резюмирующими их содержание подзаголовками – обычай, который в XV в. внедряется повсеместно, тогда как прежде крайне редко имели обыкновение делить целое на отдельные части. Требования к прозе предъявляются сравнительно более высокие, чем к поэзии: прежняя, рифмованная, речь еще позволяла глотать всё что угодно, проза же, напротив, – это художественная форма.
Но более высокие качества прозы в общем заключались именно в ее формальных элементах; новыми идеями она отличалась столь же мало, как и поэзия. Фруассар – типичный пример автора, который не думает в слове, но лишь запечатлевает. Едва ли у него имеются мысли – пожалуй, только представления о фактах. Он знает лишь несколько нравственных мотивов и чувств: верность, честь, алчность, доблесть; но и те – в самом простейшем виде. Он не прибегает ни к теологии, ни к аллегориям, ни к мифологии – и разве что чуть-чуть к морализированию; он всего-навсего пересказывает – точно, без нажима, вполне адекватно происходившим событиям, однако бессодержательно, никогда не захватывающе, с той механической поверхностностью, с какой действительность воспроизводится кинематографом. Рассуждения его отличаются беспримерной банальностью: всё в конце концов приедается; ничто не может быть неотвратимее смерти; иной раз терпят поражение, иной раз побеждают. Относительно ряда понятий он с механической уверенностью высказывает непререкаемые суждения: так, например, когда бы он ни заводил речь о немцах, он утверждает, что они плохо обращаются с пленными и отличаются алчностью1269.