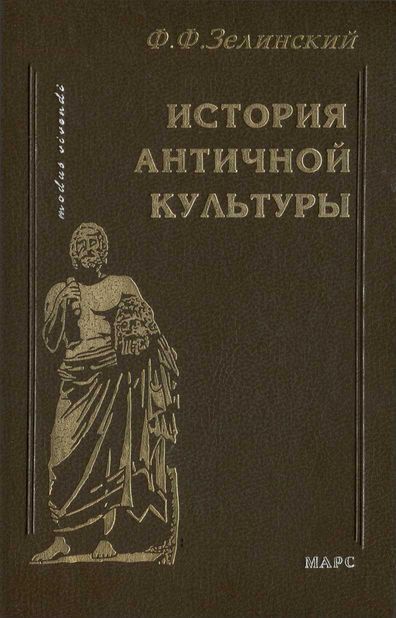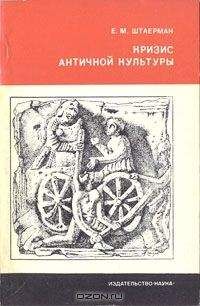на всю ту подпочву ложится латинское наслоение, и оно побеждает: к концу нашей эпохи мы имеем уже латинскую Африку, давшую также и литературе своеобразную «африканскую латынь», страстную и подчас дикую, но всегда сильную — латынь Апулея среди язычников, Тертуллиана и бл. Августина среди христиан. Экономическое значение этих провинций было неодинаково. Африка в узком смысле по плодородию мало уступала Египту, и Нумидия к ней в этом отношении приближалась; Мавритания была менее обильна, и ее оккупация Римом при Калигуле преследовала, главным образом, военные цели — обезопасить Испанию от набегов с юга.
Таким образом, все культурное развитие империи повело неизбежно к роковому дуализму: греческий Восток, римский Запад; внутренняя политика Рима держалась последовательно системы двух «наших» языков, эллинизируя Восток и романизируя Запад. Там она продолжала дело эллинистической эпохи, здесь делала свое, и успех был на ее стороне. Орудиями романизации были: 1) колонии и конвенты римских граждан, 2) свободная латинская школа, 3) армия при последовательно проведенной системе местного набора. Но главным средством было терпение, старательное избегание крутых мер, которые бы приправили очевидную пользу усвоения римской культуры изъянами нравственного характера. И поразительна была сплоченность этой двойной империи: и сириец Лукиан и испанец Сенека одинаково чувствовали себя гражданами единого римского государства. Его временные расщепления были делом армий, требовавших престола каждая своему полководцу; народы же провинций льнули друг к другу и к общему центру — Риму.
§ 10. Нравственное сознание. Многовековая работа греческой философии в греческой и латинской оболочке принесла в нашу эпоху свои самые обильные плоды, спаивая различные части римской империи также и единством нравственной культуры. Она обнимала далеко не одни только верхи общества: возродившаяся в нашу эпоху с новой силой киническая проповедь проникала в самые низшие слои, ставя всех лицом к лицу с коренными вопросами морали. Эти вопросы считаются везде самыми интересными; в деревенской усадьбе Горация его крестьяне-соседи за скромной трапезой охотнее всего рассуждают о том:
divitiis homines an sint virtute beati;quidve ad amicitias, usus rectumne, trahat nos,et quae sit natura boni summumque quid ejus [108]
(Гор. Сат. II, 6, 73). Богатые люди приглашают к себе домашних философов в качестве руководителей совести и воспитателей своих детей; бедные довольствуются посещением публичных лекций и собственными беседами, беднейшие жадно прислушиваются к уличным проповедникам или составляют благодарную аудиторию какого-нибудь смышленого раба из хорошего дома, пересказывающего им то, что он подслушал на уроках своих барчуков. Сама философия, идя навстречу потребностям общества, оставляет в стороне физические и даже логические вопросы и сосредоточивается на этике; она учит людей, как им оправдаться.
Перед кем? Вот здесь начиналось разногласие. Заветы автономной этики Платона не были забыты; высокая философия и в нашу эпоху склонна была ответить: перед самим собой — в видах достижения того уравновешенного душевного состояния, в котором все ее направления под различными аспектами видели цель нашего поведения и залог нашего счастья. Но в то же время, где более, где менее, и мистический эвдемонизм дает себя чувствовать; стоическая философия, признавая божий промысел (providentia), открывала дверь признанию также и богозависимости наших поступков. Наша эпоха — эпоха сакрализации морали. Усиливается прежде всего мистический биологический эвдемонизм — убеждение в необходимости оправдания перед божеством в видах предотвращения его гнева и заслуживания его милости на земле: innocui vivite — numen adest! [109] Но по отношению к этому убеждению наша эпоха находилась далеко не в столь выгодных условиях, как эллинский период, вследствие утраты филономического сознания. Сосредоточивая все внимание на единичной жизни, человек неизбежно сталкивался с мучительным вопросом: почему так часто дурным живется хорошо, а добрым — худо? Высокая философия отвечала на него, отвергая его содержание: никогда добрым не живется худо, так как нет блага, кроме добродетели, а добродетель неотъемлема. Но эта героическая мораль была доступна лишь немногим; остальные требовали восстановления нарушенного нравственного равновесия и, не находя его здесь, искали его там.
При таком настроении неудивительно, что мир становился добрее: подготовленное эллинистической эпохой (выше, с.213) нравственное облагорожение человечества переносится и на Запад, и Траян не без гордости говорит о гуманности «своих» времен. Правда, перенесенная на Запад, эта греческая доброта столкнулась с жестокостью гладиаторских игр, которые, в свою очередь, как своего рода символ Рима, были перенесены на греческий Восток [110]. Но это было только периодическое опьянение жестокостью, не упраздняющее основного гуманного настроения, сказывавшегося в усиленной благотворительности, в смягчении участи рабов, в мягкости и кротости общественных нравов. Позднее варваризация Рима, подготовленная эпохой Северов и усиленная смутным временем, произвела и в этом отношении перелом в римском обществе.
Та мягкость и кротость нравов, о которой мы говорим, была своеобразно окрашена все усиливающейся верой в предопределение, явившейся последствием победоносного шествия астрологии (ниже, § 11). Незыблемый и неумолимый Рок — настоящее божество нашей эпохи, сменившее в этой роли прихотливую Фортуну (Tyche) эллинизма; ее лозунг:
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt. [111]
Кто мудр, тот будет покорен Року. Такого мудреца изобразил Вергилий в лице героя своей «Энеиды», этой книги воспитательницы римской молодежи, в самом начале нашей эпохи; такого же мы видим и на римском престоле к концу ее расцвета — в лице императора-философа Марка Аврелия.
Но и непокорных было много; они тяготились сознанием своей беспомощности против неумолимой силы, предопределяющей и нашу судьбу, и нашу волю таинственными излияниями планет в минуту нашего рождения — и внимательно прислушивались к призыву тех, которые им говорили, что «купель Крещения смывает планетную печать».
Глава II. Наука
§ 11. Тот подъем научного духа, который имел своим результатом великие открытия эллинистического периода, уже в I веке до Р.Х. пошел на убыль, чему причиной был в значительной степени упадок эллинистических дворов. После их исчезновения в нашу эпоху дела не могли пойти лучше; и действительно, в большинстве наук обозначился застой и даже регресс. Содействовало этому также и настроение времени, обращение людей от внешнего мира к внутреннему, а также и торжество той лженауки, о которой речь была только что.
Правда, математика, осененная великим именем Платона, пользовалась большим почетом; она и в нашу эпоху дала первоклассного представителя — Диофанта Александрийского (III век), отца алгебры, которую он впервые эмансипировал от геометрии (завещавшей ей термины квадрат, куб и т.д.) и превратил из пространственной науки в отвлеченную. В области астрономии и географии знаменитый Клавдий Птолемей (II век) значительно развил локализацию городов в меридианной сетке Эратосфена, но он же, пренебрегши открытиями Аристарха Самосского и вернувшись к геоцентрической системе Аристотеля, закрепил ее на без малого полтора тысячелетия под именем «птолемеевской системы». В зоологии застой