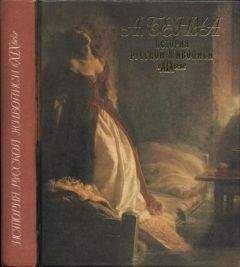34
Это звучит так, как будто он знал уже формулу Мане и Золя о plein air'e.
Лучшее доказательство тому, что он мог, доказывает его совершенно изумительная пастель «Группа крестьян» 1823 года (в Музее Александра III), которая могла бы сделать честь лучшим художникам прошлого и начала нынешнего века на Западе и даже в Англии.
В бумажном издании эта картина напечатана в зеркальном отображении (право-лево), в Интернете везде именно так! (прим. составителя fb2).
Вероятно, в таком же роде были их виды Волги, исполненные, впрочем, гораздо позже, — бесконечная, в несколько сажень панорама, которую они срисовывали, медленно переезжая с места на место и живя в импровизированном на барке домике. К сожалению, этот драгоценный топографический документ затерялся.
Я дольше остановился на всех венециановцах — несмотря на то, что и сведений о них мало, да и произведения их все наперечет, — потому что, во-первых, считаю эту школу одним из важнейших явлений в истории русского искусства, а затем также питая надежду, что эти строки заставят кого следует поискать и навести справки: авось не все еще погибло и есть возможность собрать всех этих милых художников и представить их в полном объеме…
В интернете под таким же названием приводятся несколько иные изображения данной картины (прим. составителя fb2).
Замечательно, что ему, как и Алексееву, Москва обыкновенно не удавалась: она для них была чужая. Передать Москву в ее народной прелести удалось лишь художникам нашего времени с Суриковым во главе. Нужно было сначала совершенно найти себя и полюбить свое, чтобы суметь передать красоту, созданную допетровской, истинной Россией. Воспитанным в петербургской Академии художникам XVIII и начала XIX века Москва своей несуразной, дикой красотой, своей древностью должна была казаться отвратительной, грязной и нелепой. Они старались придать ей иноземного шика, «питтореска», старались смягчить ее смелые краски, сгладить шероховатость ее форм.
Из всех этих наших первых, ложноклассических академиков Шебуев еще самый приятный и может выдержать сравнение с некоторыми поздними болонцами, римлянами и французами. Он удачно и иногда умно подражал величавой простоте Пуссена (разумеется, не гениальным произведениям этого мастера, не чудным его пейзажам и романтично-мифологическим сценам, а его скучноватой строго исторической, в духе рафаэлевских эпигонов, живописи) и обнаружил особенно там, где не стеснял себя требованием оконченности, приятную по своей «солидности» манеру писать. Небезынтересен также своими красочными задачами — в красноватой «лемуановской» гамме — рано скончавшийся В. Соколов, остальные же, и среди них два «знаменитейших рисовальщика», тверже всех вызубрившие академические каноны: Егоров и Андрей Иванов, превосходят по скуке и мертвечине все, что делалось в этом роде на Западе. Странно, что Лосенко, оставивший весьма порядочные портреты, автор, быть может, того прекрасного «Живописца», отлично, сочно и живо писавший этюды с натуры, в картинах является до последней степени фальшивым и ходульным.
В скульптуре — Мартос, позже Гальберг, в архитектуре — Томон.
В этом отношении князь Гагарин заслужил, рядом с Рихтером, Мартыновым, Солнцевым, Далем, Забелиным и Стасовым, самое почетное место в истории русского искусства. Все эти художники и ученые совершили благое дело. Они подготовили почву, на которой затем, со всей своей богатырской удалью, мог развернуться Суриков, без которой немыслимы были бы Васнецов и вся новая московская школа. Благодаря их неустанным указаниям, подчас неточным и сбивчивым, но всегда горячим и увлекательным, мы теперь поняли через Сурикова, братьев Васнецовых и Малютина, что такое Москва и наша древняя, истинная Россия, что такое ее искусство, поняли, какие, почти еще не затронутые, богатства представляют нам на разработку русская старина и русская народная жизнь. Поэтому мы должны быть особенно благодарны всем этим начинателям, невзирая на то, что в этих первых опытах некоторые из них часто спотыкались и ошибались.
Впрочем, по манере и тонкости рисунка как раз эта акварель скорее может быть приписана, несмотря на современное свидетельство, его брату Александру. Александр Брюллов, отдавшийся впоследствии исключительно архитектуре и математике, в 20-х годах не только рисовал прелестные виды Петербурга, но, как уже сказано выше, был одним из лучших портретистов своего времени и в Неаполе даже имел такой успех, что переписал в акварелях весь королевский дом и всех придворных. Его акварели, вернее — рисунки, подкрашенные водяными красками, так изящны, так метко и тонко передают черты изображенных людей, так превосходно нарисованы, что могут не только спорить с произведениями брата, но даже, именно, с лучшими Энграми, на которых они всегда очень похожи.
Принято у нас считать Брюллова и всех его последователей романтиками, однако это по недоразумению. Можно вполне утверждать, что у нас в живописи вообще романтизм так и не проявился, если не считать предвестников его: Кипренского, Орловского и Воробьева, эпигона Айвазовского, о котором речь будет впереди и, пожалуй, еще одиноко стоящего Ломтева, грустного пропойцу, далеко не высказавшегося вполне, занимавшегося большей частью подражаниями некоторым французским романтикам, но доказавшего в этих подражаниях, что в нем было чувство таинственного, кое-какое расположение к сказочному, волшебному и небывалому. Его гроты с нимфами, рембрандтовские турки в невероятных чалмах, сидящие в фантастических, зеленых подземельях, странные пожары и развалины монастырей, а также его дикая, но насыщенная, довольно красивая краска имеют что-то общее с вымученными фантазиями декадента романтизма — Гюстава Моро.
И совсем невозможно среди представителей, шедших в академической иконописи вслед за псевдоназарейцем Бруни. Таких, впрочем, было немного, да и те, которые были, повторяли лишь слабые стороны мастера и далеко не достигли того размаха и того мастерства композиции, которые и до сих пор, несмотря на скрываемую под ними фальшь, сообщают произведениям нашего Корнелиуса известную прелесть и торжественность. Сюда относятся: немец Нефф и подражатель его итальянец Дузи, которые засахарили сладость бруниевской мистики до последних пределов и так же, как в своих знаменитых «нимфах» — «спящих девушках» они превратили чувственность Бруни в какую-то гладкую и розовую á la Riedel жеманность; полубрюлловец, немец Моллер, о котором будет еще сказано впереди; Марков, бездарный человек, попытавшийся было угнаться за бруниевскою величественностью композиции в своем Триипостасном Боге, но справившийся с этой задачей только благодаря помощи Крамского (нашим Микеланджело не под силу были многосаженные плафоны), и, наконец, Васильев, скучный труженик, шедший робко по пятам Фландрена и Бруни и пожелавший, очень неудачно, соединить их назарейский пошиб с византийской застылостью. Все эти лучшие товарищи и преемники Бруни едва ли достойны простого перечисления в истории живописи. Остальные же художники, решавшиеся дерзновенной рукой творить украшения для Божиих церквей и писать образа для молитв, были окончательно безличными иконописцами, идеалом которых были болонские сочинения Карла Павловича. Они, несомненно, уступали суздальцам, простым деревенским малярам, так как не обладали даже их традиционным стилем и не владели их декоративными шаблонами. Таковых, с «академическим» Верещагиным во главе, было великое множество, и много вреда они все нанесли русскому народному вкусу тем, что их творениями часто заполнялись целые храмы (например, Храм Спасителя) и, что окончательно грустно, иногда заменялась древняя живопись в старинных церквах…
Романтический момент в этой картине заключается только в страшном и даже торжественном падении языческих кумиров с высоты разрушающегося храма.
Но Моллера критиковали современники не за то вовсе, что он не мог достичь Овербека, а за то, что он, великий русский художник, любимый ученик Карла Павловича, вздумал погнаться за таким ничтожеством, каким представлялся у нас всем глава немецких пуристов.
Единственная прелесть картин Бакаловича — это весьма порядочная и иногда даже не лишенная поэзии mise-en-scène, обнаруживающая большое знание помпейских раскопок. Его дворики, сады, в которые он сажает свои фарфоровые куколки, иногда очень милы по своему провинциальному уютному и «маленькому» характеру. Бакалович, видимо, вслед за Тадемой, понял прелесть мелкого, домашнего искусства древних, и это понимание, пожалуй, до некоторой степени может спасти его произведения от забвения.