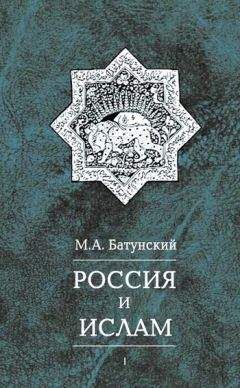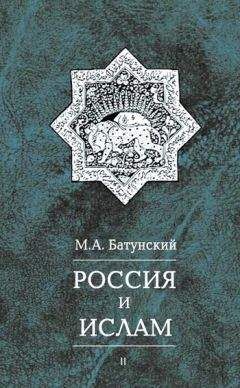Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – начала XVI века. М.—Л., 1955. С. 284). Идеологи средневекового православия включали в категорию «еретики» тех, кто, «не исповедуя Иисуса Христа во плоти пришедша, есть порождение Антихриста» (См.: Там же. С. 43). Однако любопытно, что в ряду «лжепророков» и «лжеучителей» почти ни разу не упоминается Мухаммед. Не менее важно, впрочем, и следующее. Бесспорна связь виднейших участников так называемой московско-новгородской ереси (XV в.) со Стамбулом (см.: Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XV–XVI вв. М., 1984. С. 101). Но в своем идеологическом наступлении на доморощенные ереси (см. о них: Hosch Е. Orthodoxie und Hâresie im alten Russland. Wiesbaden, 1975) – в частности, на их иконоборчество, их отрицание церковной иерархии и т. п. – православие не прибегало к обвинению в том, что они следуют исламу (или тесно с ним связаны в теологическом и прочих планах). Ведь слишком уж прочной стеной были отгорожены церковью и концептуальное содержание ислама, и его обрядово-ритуальный комплекс от всего того, что росло и развивалось – или, напротив, тут же гибло – в пределах православно-русской государственности. Вновь привлеку внимание и к тому факту, что определение самого ислама как ереси не только крайне редко, но и является, в сущности, функционально не нагруженным. Оно не вошло сколько-нибудь прочно в русскую употребительную лексику; оно носит окказиональный характер и механически повторяет (притом в самом кратком виде) соответствующие византийские или западноевропейские формулировки; оно не разрабатывалось далее и в общем-то почти не подключалось к тематическому уровню собственно русских конфессиональных атак на мусульманство. Но не забудем, что то мусульманство, с которым контактировали русские, обладало – в отличие от арабско-персидского – крайне малой интеллектуально-теологической, полемической, апологетической и духовно-экспансирующей силой; оно не смогло создать равномощный православию мир таких идей и обрядов, которые могли бы и прочно привязывать к себе исповедников ислама, и вызывать к себе симпатии его же противников.
52 Именно к мусульманам этот термин применялся всего чаще (См., наир.: ПСРЛ, XIII. С. 223, 226, 521).
53 Цит. по: Тихомиров М.Н. Русское летописание. М., 1979. С. 161.
54 См. подробно: Cresly D.A. Interpretive Theories of Religion. Mouton. The nague etc., 1981. P. 234.
55 Стихи Федора Тютчева, во многом близкого славянофилам.
56 В этом отношении особого внимания заслуживает носящий ярко выраженный проаристократический характер проект русско-польского договора 1610 г. (См. о нем подробно: Черепнин Л.В. К вопросу о складывании сословно-представительной монархии в России в XVI в. // Культурные связи народов Европы в XVI в. С. 156 и след.) Несмотря на то что в Англии XVI в., например, многие без колебаний причисляли русских к сонму азиатов и даже негров. Впрочем, в той же Англии не менее отрицательно трактовали и образ немцев (См. подробно: Raderun W. Das englische urteil iiber den Deutschen bis zum Mitte des 17 Jahrhunderts. Berlin, 1933).
57 Он не только ограничивал царскую власть Думой, но и разрешал поездки «для науки» в другие – западные исключительно – христианские государства. Но конечно, гораздо более значима тяга множества представителей русского нобилитета в поспетровские времена к католичеству и католическому Западу.
58 Конечно, усиленно внушаемое русской церковью враждебное отношение ко всему иностранному «не могло не дать… своих плодов, вызывая в народе предубеждение к иноверным «немцам», как к существам «нечистым», оскверненным «латинской» схизмой. На воображение русского человека, воспитанного в почитании православия и его обрядов, не могли не воздействовать церковные проповеди и поучения, как, например: «…в латинскую входити, ни пить с ними из единой чаши, ни ясти…», или же: «ядят («немцы». – М.Б.) со псы и кошками… ядят дикие кони и ослы, и удавленину, и мертвечину, и боброину, и хвост бобров… икон не целуют, ни мощей святых» и т. п. И если русские государи в XVI в. после приема западных послов тщательно мыли руку (см. об этом: Герберштейн С. Записки о Московии. С. 189), которую целовали послы, а помещение, в которое происходила аудиенция, потом столь же тщательно окуривалось ладаном и «очищалось» специальными молитвами, то что можно сказать о простом русском человеке, для которого каждый «немец», по заверениям попов, был почти сродни самому дьяволу? Но далее А.К. Леонтьев верно отмечает, что эта предубежденность «зиждилась только на религиозной нетерпимости к иноверцам… Стоило «немцу», с которым избегали общаться в быту, отречься от «латинства» и перейти в православие, как он становился «добрым христианином», уважаемым членом общества» (Леонтьев А.К. Нравы и обычаи. С. 54), хотя в начале XVI в. с Запада «к московитам перебегают редко, и только те, которым в другом месте жить нельзя или опасно» (Герберштейн С. Записки о Московии. С. 70). А вот как описывают отношение самого Ивана Грозного к западным людям Панченко и Успенский: «Он дозволяет лютеранам завести в Москве церковь, охраняет ее… хвалит немецкие обычаи. Среди опричников мы видим иностранцев. Они пользуются почетом… назначаются полковыми воеводами (но таковыми не раз бывали и татары, как мусульмане, так и новообращенные! – М.Б.), как бы предвосхищая наемных генералов Петра. Грозный доходит до того, что прочит в наследники Магнуса Ливонского… Есть сведения, что Грозный действительно предоставлял иноземцам особые льготы» (Панченко А.М., Успенский Б.А. Иван Грозный и Петр Великий: концепции первого монарха // ТОДРЛ. XXXVII, Л., 1983. С. 60). Для рассматриваемой здесь проблемы интересна и такая деталь: Д. Флетчер – приверженец англиканской церкви – обращает внимание на общность многих католических и православных догматов и норм (см.: Флетчер Д. О государстве Русском. С. 108–111). Интересно такое свидетельство Герберштейна: в русско-православных святцах «находятся некоторые римские папы, которых они (русские. – М.Б.) почитают святыми; других же пап, которые были после разделения церквей, они проклинают как отступников от установлений апостолов, святых отцов и семи соборов, называют их еретиками и раскольниками и ненавидят их более, чем самих магометан» (Герберштейн С. Записки о Московии. С. 48. Курсив мой. – М.Б.). В то же время митрополит Иван писал папе: «Я не знаю… какой дьявол был столь злобен и ненавистлив, так враждебен истине и так противен взаимному благорасположению, что нашу братскую любовь отстранил от всего христианского союза, говоря, будто мы не христиане. Мы же… признаем, что вы благословением Божиим христиане, хотя и не во всем соблюдаете христианскую веру и во многом отличаетесь от нас». (Там же. С. 49). В целом же, однако, русские были убеждены, что «только одни они держатся истинной веры» (Там же. С. 69).
Самооценка Руси периода крещения отличается двойственностью. С одной стороны, Русь осознает себя как часть христианского мира. Граница «свои – чужие» пролегает между культурно освоенными, христианскими, связанными с оседло-городской цивилизацией землями и «дикой» степью. С другой стороны, напряженность в русско-византийских отношениях, а затем раскол между западной и восточной церквами заставляет проводить эту черту по линии Русь – Греция, Русь – католическая Европа, т. е. в конечном счете уже сложившаяся «старая» христианская цивилизация – «молодая» христианская цивилизация восточных славян (как их противопоставлял в XI в. митрополит Иларион). Однако своеобразие положения проявляется в том, что Византия остается, при любых военно-политических конфликтах, религиозной метрополией (я бы уточнил – «религиозно-политической метрополией», учитывая, что русские князья именовали себя «архонтами», т. е. признавали себя производными от византийской государственной машины. – М.Б.). В равной мере складывающаяся феодальная структура Киевского государства испытывает влияние нормы развитой рыцарской культуры европейских государств. Это приводит к тому, что «чужое» получает значение «культурной нормы» и высоко оценивается на шкале культурных ценностей, а «свое» или вообще выводится за пределы культуры как «докультурное», или же получает низкую оценочную характеристику. Таким образом, создаются условия для своеобразной культурной традиции. В предельных случаях это может (даже на ранних стадиях культуры) создавать возможности полной мены «своего» и «чужого». Осознание «чужого» как ценного (в религиозном аспекте как нормативного) не отменяет психологического недоверия, вызываемого постоянно обновляемым чувством его инородности. Одновременно возможно и другое: создание психологической ситуации раздвоенности. Мир высоких ценностей вызывал двойственное отношение, будучи также источником подозрительности и недоверия. Словом, в русской феодальной культуре на самых разных стадиях ее функционирования имело место «своеобразное сочетание ксенофобии и тяготения к иностранцам» (С. 114), исключительно сложное отношение автохтонного коллектива к чужакам. Широко распространенная ситуация, при которой новатор приходит извне, осложнялась реально-исторической коллизией «Русь – Византия» или «Россия – Запад». Двойственность внешнего мира (источник святости или знания, с одной стороны, источник греха и безверия – с другой) «приводила к внутренней противоречивости отношения и контактам с ним: путешествие (или связь) с чужими землями могла быть в принципе амбивалентной – и источником добра, и причиной Зла…» (Там же).