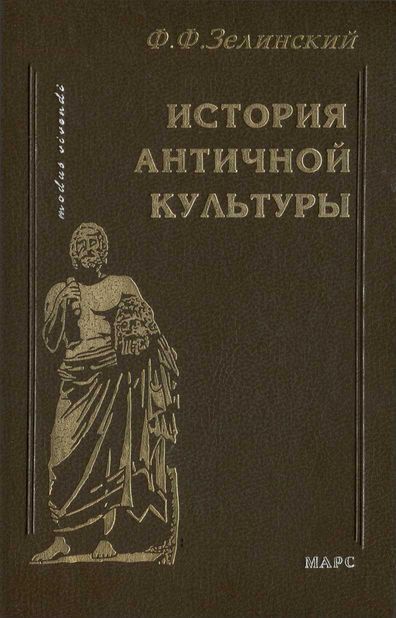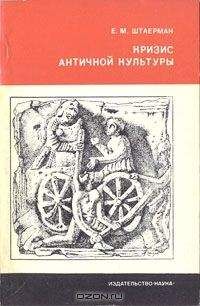оно живет парниковой жизнью, как парадное красноречие, в так называемой «второй софистике», вновь поднявшей значение этого заклейменного Платоном имени. Явление это — очень интересное в бытовом отношении, но малоутешительное в литературном, и мы бываем склонны проклинать извращенный вкус последующих эпох, которые, дав погибнуть стольким сокровищам греческой поэзии, бережно сохранили нам бессодержательные речи Элия Аристида (III век), главного представителя этого направления. Интересуют нас те риторы, которые совмещают свои занятия с философией; таковы особенно Дион Златоуст и Лукиан. Первый (I век) нас подкупает разносторонностью своих интересов, благородством своей души и известным величием в сознании своей миссии как учителя человечества; сверх того, мы благодарны ему, что он навестил нашу Ольвию в годину ее упадка и оставил нам картину ее тяжелой жизни. Второй (II век), родом сириец, был его прямой противоположностью: вечно беспокойная, мятущаяся натура, переходящая от риторики к академии, от академии к кинизму, от кинизма к Эпикуру, ничем не удовлетворенная и нашедшая себе, наконец, успокоение в облюбованном уголке практической жизни как императорский чиновник в Александрии. Но в своих многочисленных и необъемистых сочинениях он обнаруживает блестящий, хотя и легковесный юмор и по праву может быть назван отцом новейшего фельетона. Не был причастен к философии ритор северовской эпохи Филострат; нам он интересен отчасти как биограф живших до него «софистов», но главным образом как автор обстоятельного жизнеописания знаменитого чудодея флавиевских времен Аполлония Тианского.
Близко к софистическим декламациям, которые ведь и сами были нередко уголовными романами в лицах (выше, с.230), были настоящие роман и повесть. Их появление в литературе описано выше; сентиментально-идеалистический роман, сотканный по формуле: 1) возникновение любви, 2) разлука и приключения, 3) воссоединение и счастье — тянется через всю нашу эпоху, но нас эти авантюры без авантюризма, в которых жаждущие воссоединения герои играют довольно пассивную роль, мало пленяют. Лучше прочих роман-идиллия Лонга «О Дафнисе и Хлое»; он один остался на поверхности. Рим дал в указанной области два выдающихся романа, но не идеалистического, а реалистического характера; это «Satyricon» (gen. pl., дополняется: libri [123] Петрония Арбитра (эпоха Нерона) и «Метаморфозы» Апулея (эпоха Антонинов). Первый, отчасти только сохраненный, дает ряд ярких бытовых картин Нероновой эпохи, очень вольных по содержанию, но вполне убедительных; особую прелесть сообщают ему вплетенные в него новеллы, между прочим знаменитая — об «эфесской матроне». Второй и сам — растянутая новелла о превращении магическими средствами юноши в осла и его избавлении. Этой легкомысленной новелле, однако, автор дал неожиданно торжественное заключение: избавленный юноша посвящается в мистерии Исиды, оставляя нас под впечатлением благоговейной картины из религиозной жизни этих жаждущих спасения времен.
Глава IV. Религия
§ 14. Греко-римский Олим. Первый век до Р.Х. был временем упадка для старинной греко-римской религии. Постоянные междоусобицы и их последствия, оскудение государственной и городских касс повели к запущению храмов, жречества и праздников; с другой стороны, умы интеллигенции, даже той ее части, которая в нравственном отношении исповедовала стоические принципы, в религиозном охотно отдавала себя во власть ново-академического скепсиса или эпикурейского эстетизма.
Теперь наступает переворот. Правление Августа было временем реставрации старинной религии. Сам правитель в своей мировой столице, которую он «получил кирпичной, оставил мраморной», усердно отстраивал обвалившиеся храмы и воздвигал новые, особенно в честь своего бога-покровителя Аполлона Актийского, милости которого он приписывал свою победу над Антонием и Клеопатрой; построенный им этому богу храм на Палатине по соседству с его дворцом стал соперником храма Юпитеру Капитолийскому. Он же всячески поощрял покорную ему знать занимать стеснительные староримские жреческие должности и посвящать своих дочерей в весталки. Пример государя был, конечно, указом для подданных; теперь, вздохнув свободнее благодаря вожделенной Pax Augusta, римлянин опять с гордостью почувствовал себя римлянином, — а быть римлянином значило поклоняться древнеримским богам, покровителям и символам римской мировой власти. «Dis te minorem quod geris, imperas» [124], — сказал Гораций (Гор. Оды, III, 6, 5) со свойственным ему неподражаемым умением сосредоточивать в краткой формуле волнующие многих мысли и чувства. И когда тот же поэт мечтает о бессмертии своей поэзии (Гор. Оды, III, 30, 8), ему это бессмертие кажется обеспеченным вечностью того времени,
...dum CapitoliumScandet cum tacita virgine pontifex. [125]
И мы не имеем никакого права ни считать лицемерными заботы императора о возвеличении родных культов, ни клеймить сюда же направленное возрастающее благочестие граждан именем внешнего и бессодержательного формализма. Тогдашняя кружковая жизнь, цеховые собрания и символы, посвятительные надписи и т.п. достаточно свидетельствуют как о распространенности, так и об искренности этого религиозного чувства. Следующие императоры последовали примеру основателя империи; преемственность этой заботы была обусловлена преемственностью титула pontifex maximus [126], который они носили все.
И все же новая религиозность новой эпохи не могла удовлетвориться одним только воскрешением прежнего. Она требовала, прежде всего, более интимного соприкосновения с божеством; возникло, хотя и сотканное из старых элементов, все же по духу новое религиозное представление — представление о гениях, или демонах. Древнеримский гений был «смертным богом человеческой природы», принципом физической жизни; признание бессмертия души повело к признанию бессмертия также и гения. С другой стороны, греческий демон еще со времени Гесиода считался духом-хранителем человека; но это поэтическое представление не было повсеместным и не имело опоры в культе, в то время как римский гений таковую имел, будучи чествуем ежегодно в день рождения (natalis) данного человека и призываем в клятвах. Теперь — между прочим, и под влиянием академической философии — демон-гений получает выдающееся место в народной религиозности. Это — существо, среднее между богом и человеком; он дается каждому спутником в момент его рождения и неустанно за ним следит, будучи свидетелем как его добрых, так и злых деяний; в минуту смерти он берет его душу и ведет ее к престолу вечного судьи, дабы дать там свидетельство о ее жизни и этим решить ее участь на том свете.
§ 15. Культ императоров. Но кроме того, мировой характер римской державы требовал такой религии, которая бы объединяла все ее части, будучи одинаково близка сердцу испанца и сирийца. Пробел был очень чувствителен; заполнил его, впредь до лучшего решения, культ императоров.
В этом для нас столь малопонятном и отталкивающем явлении следует различать две стороны: культ живого и культ почившего императора. Вторую мы скорее склонны извинить; и действительно, Августу без труда удалось провести обоготворение своего покойного отца Цезаря как divus [127] (но все же не deus [128]) Julius и посвятить ему храм и жрецов. Она вытекает довольно естественно из признанного еще в республиканскую эпоху (выше, с.290) догмата «omnium