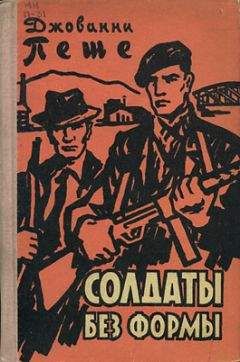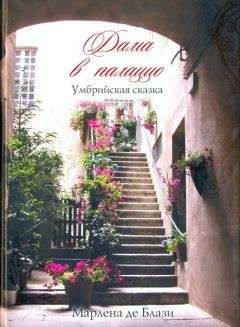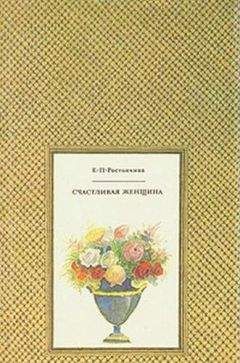- Ага, значит, поход в Сицилию? Правильно я тебя понял, друг Лоренцо?
Лев спрашивал небрежно, даже чуточку насмешливо, но Александр, уже начавший разбираться в настроениях своего нового друга и попутчика, видел, что и Мечников всерьез заинтересован рассказом гарибальдийца.
- Так, синьор, так, - закивал Лоренцо.
- Но когда, когда же это будет? Quando? Quando? - не вытерпел Александр.
Лоренцо понимающе глянул на юношу. Его выпуклые глаза, казалось, заблестели еще ярче.
- Скоро, очень скоро. Как только соберем оружие и людей, как только генерал скажет: "Вперед! Avanti!" Люди готовы. Осталось только раздобыть еще оружия и немного денег, и тогда генерал тотчас же подаст знак. - Он повернулся к Мечникову. - Avanti, синьор Леоне, avanti!
- Не понимаю, Лоренцо, что ты хочешь этим сказать, - со смехом отвечал Лев.
- А вот и понимаете, отлично понимаете! - с жаром подхватил Лоренцо. - Мы с вами славно сражались с австрийцами под Комо, и я своими глазами видел, как вы не жалели себя и бросались в самое пекло. Вы говорили мне тогда, что ваша Россия очень далеко, что там у вас всюду снег и лед, но что русские - люди с горячей кровью и, как итальянцы, тоже хотят свободы. И вы сражались за нашу страну, как будто вы настоящий итальянец. Но, может быть, вы изменились с тех пор, синьор Леоне?
- Нет, я не изменился, Лоренцо, - улыбаясь, отозвался Мечников.
- А если так, синьор Леоне, если вы и вправду остались таким, как были, то сейчас, когда в Сицилии будет решаться судьба всей Италии, всего нашего народа, вы не сможете вот так смотреть на это издали или сидеть и рисовать свои картинки! Вы пойдете с нами, синьор Леоне, со мной, с генералом, со всеми вашими прежними товарищами. И мы вместе навсегда прогоним проклятых бурбонцев! - И Лоренцо так пристукнул кулаком по столу, что подскочила оплетенная соломой бутыль.
- Ого, вот это оратор! - воскликнул, хохоча, Мечников. - Ай да Гарибальди - знал, кого послать за волонтерами! Клянусь, Александр, час назад я думал только о косах да о лопатах для нашей коммуны, а этот Пучеглаз так меня разбередил, что впору завтра же взять ружье в руки и идти под знамена Галубардо... Ба-ба-ба, что я вижу! - Мечников близко нагнулся к лицу Александра. - Щеки горят, глаза мечут молнии, дыхание прерывистое. Я же был медиком, эскулапом, вот мы тотчас и определим ваше заболевание. Ну-ка, ну-ка, дайте ваш пульс, дорогой пациент! - Лев, дурачась, охватил пальцами запястье Александра. - Так и есть! "Febris Belli", иначе говоря - лихорадка войны. А в переводе это означает, что Есипову-младшему до страсти захотелось попасть к гарибальдийцам!
- А вы сами, Лев, вспомните, что вы сами только что говорили, пытался защититься Александр. - И потом, если вдуматься хорошенько, наша коммуна - это отличное, благородное дело для пользы народной, но и сражаться за свободу Италии - это тоже дело для народа и, конечно, конечно же, это большая честь для каждого. А для меня и для вас, Лев...
Александр окончательно смешался и замолчал, но на лице у него была написана такая решимость, что Мечников понял: никакие уговоры уже не подействуют на товарища. Впрочем, Лев и не мог бы отговаривать Александра: он и сам ощущал нетерпеливое желание снова присоединиться к гарибальдийским войскам. Но он был старше и хотел еще раз, зрело все обдумать. К тому же он отвечал за судьбу молодого Есипова. Поэтому он сказал:
- Прошу вас, Александр, не принимать пока никаких решений. Мы вместе, не сгоряча все это обсудим.
Потом повернулся к Лоренцо, который лукаво, с понимающим выражением, следил за всем разговором.
- Ты не напрасно явился сюда, в папскую область, Пучеглаз. Во всяком случае, одного волонтера тебе здесь, кажется, удалось завербовать.
- Двух, - хладнокровно отвечал Лоренцо и поднял выразительным жестом два пальца правой руки. - Двух, считая вас, синьор Леоне.
- Трех, - раздался вдруг трепещущий голос.
Все с удивлением оглянулись. Лука, весь пунцовый, испуганный своей смелостью, тянул Лоренцо за рукав.
- Синьор, синьор, скажите, берет генерал мальчиков? Я тоже хочу к вам в отряд. Я ничего не боюсь, синьор, я взбираюсь на самые крутые скалы, я умею стрелять, умею лазить по деревьям. Вот, поглядите!
И прежде чем могли его остановить, Лука выбежал из траттории, подскочил к высокой пинии, росшей посреди деревенской улицы, и, по-обезьяньи перебираясь с ветки на ветку, вмиг добрался до вершины.
Монахи, совсем было заснувшие за столом, подняли головы.
- Я уже здесь, синьоры. Я вижу отсюда Рим! - раздался слегка запыхавшийся голос Луки. - Я могу быть разведчиком, синьоры.
- Ладно, ладно, слезай оттуда, да смотри не сверни себе шею, а то твой отец зарежет меня! - закричал Лоренцо и гордо посмотрел на русских: Видите, какие у нас, в Италии, растут дети!
Лука уже входил в тратторию.
- Как вы думаете, синьор, подойду я генералу? - снова с волнением обратился он к Пучеглазу.
- Гм!.. генерал зовет к себе патриотов, - пробормотал Лоренцо, не зная, что ответить мальчугану.
- Так я же патриот! Я всегда был патриотом! - закричал, чуть не плача, Лука. - Вот спросите хоть дядю Пьетро, как я провел недавно одного папского жандарма. Он спрашивал дорогу на Фраскати, а я послал его совсем в другую сторону.
- Ух, мальчишка, втянешь ты нас всех когда-нибудь в беду! - проворчал дядя Пьетро, опасливо поглядывая на монахов. - Если этот синьор жандарм когда-нибудь сюда вернется, он тебя славно взгреет!
- Пускай, я не боюсь! - тряхнул кудрями Лука.
Лоренцо сделал самую серьезную физиономию.
- Ого, раз ты такой патриот, может, ты нам и подойдешь, - сказал он. - Возможно, появится место барабанщика или вот эти синьоры, - он кивнул на обоих русских, - согласятся взять тебя в денщики. Словом, если ты меня хорошенько попросишь...
- О, синьор! - только и смог вымолвить потрясенный таким счастьем Лука.
11. ПАЛАЦЦО МАРЕСКОТТИ
Художники, которые приезжают из всех стран мира в Вечный Город, делятся на две категории. Одни - помоложе и победнее - непременно хотят жить в гуще народа, изучать его, искать среди народа подходящую натуру. Эти снимают конурку в кварталах бедноты, там, где с утра до ночи стоит неумолчный шум, где в узких, темных уличках кишмя кишит бедный римский люд, живой, насмешливый и неунывающий. Из окон в окна переговариваются соседи, над головами висит белье, визжат дети, ссорятся супруги, сапожник и столяр стучат молотками, медник колотит в медный лист. Из бесчисленных жаровен, вынесенных на улицу, идет чад и бьют в нос прохожему запахи лука и оливкового масла, рыбы и чеснока, и перца в томате, и еще тысячи запахов острой итальянской кухни. Полуголые ребятишки то и дело попадаются под ноги, их братья и сестры постарше, оборванные, но независимые и полные чувства собственного достоинства, то бегают по мелким поручениям, то часами зевают на что-то, в то время как старшее поколение зевак отправляется на берег Тибра, плюет с моста Святого Ангела в рыжую воду и созерцает собственные плевки.
Художники постарше, обладающие уже именем и положением, избегают жить в таком шуме и тесноте. Эти выбирают тихие кварталы старого Рима, вроде Виа делла Пинья. Там на узкие улички выходят окна старинных дворцов, то и дело попадается маленькая пустынная площадь с фонтаном или цветником, церковь с колоколенкой, обширный и тоже пустой двор. На уличке то глубокий, колодезный сумрак, то слепящее солнце, обомшелые, позеленевшие от времени и сырости стены, садик с изгородью из буксуса и лимонных деревьев и великий покой и тишина.
Изредка пройдет монах в капюшоне или прачка с корзиной белья на голове; мягко покачиваясь, проедет коляска с важным кучером на козлах, прошмыгнет кошка и уляжется на теплых ступенях лестницы. И кажется, будто и кошка и солнце свернулись клубочком и одинаково нежатся и наслаждаются покоем.
На такой вот прелестной уединенной улочке, в бывшем палаццо Марескотти, находилась студия приехавшего из Петербурга художника Валерия Ивановича Якоби.
Якоби был известен как преуспевающий живописец, а в последнее время даже как "идейный" художник. Картина его "Привал арестантов" наделала шуму. Это было небольшое по размеру полотно.
Седые косматые тучи завихриваются на низком небе, по которому летит косяк журавлей. Журавли свободны, они могут умчаться прочь от бесприютных холодных мест, могут улететь к самому сияющему солнцу, а люди на земле закованы в кандалы. Обоз арестантов остановился в голом поле, у полосатого верстового столба. Стражники на телегах просматривают винтовки: не вздумал бы кто из арестантов бежать с привала. Да где там! Один сокрушенно разглядывает ноги, израненные кандалами, другой улегся с безразличным видом прямо на мокрую землю, третий дерется с товарищем, таким же несчастным кандальником, может, из-за куска хлеба. А на телеге лежит мертвый арестант. Он не похож на своих товарищей по этапу: породистое, одухотворенное и страдальческое лицо закинуто к небу, из-под наброшенной сермяги видны тонкие сапоги, а рука, свесившаяся с телеги, никогда не делала грубой работы. Это - "политический". Видно, он только что испустил последний вздох. Еще стоит над ним с фляжкой рыжий плотный стражник, еще не верит он, что самая крупная дичь ускользнула, и поднимает он грубым пальцем веко над остекленевшим глазом. Нет, не очнется замученный человек, и воришка, забравшийся под телегу, может безнаказанно тащить с мертвой руки перстень, верно подаренный на память о большой любви.