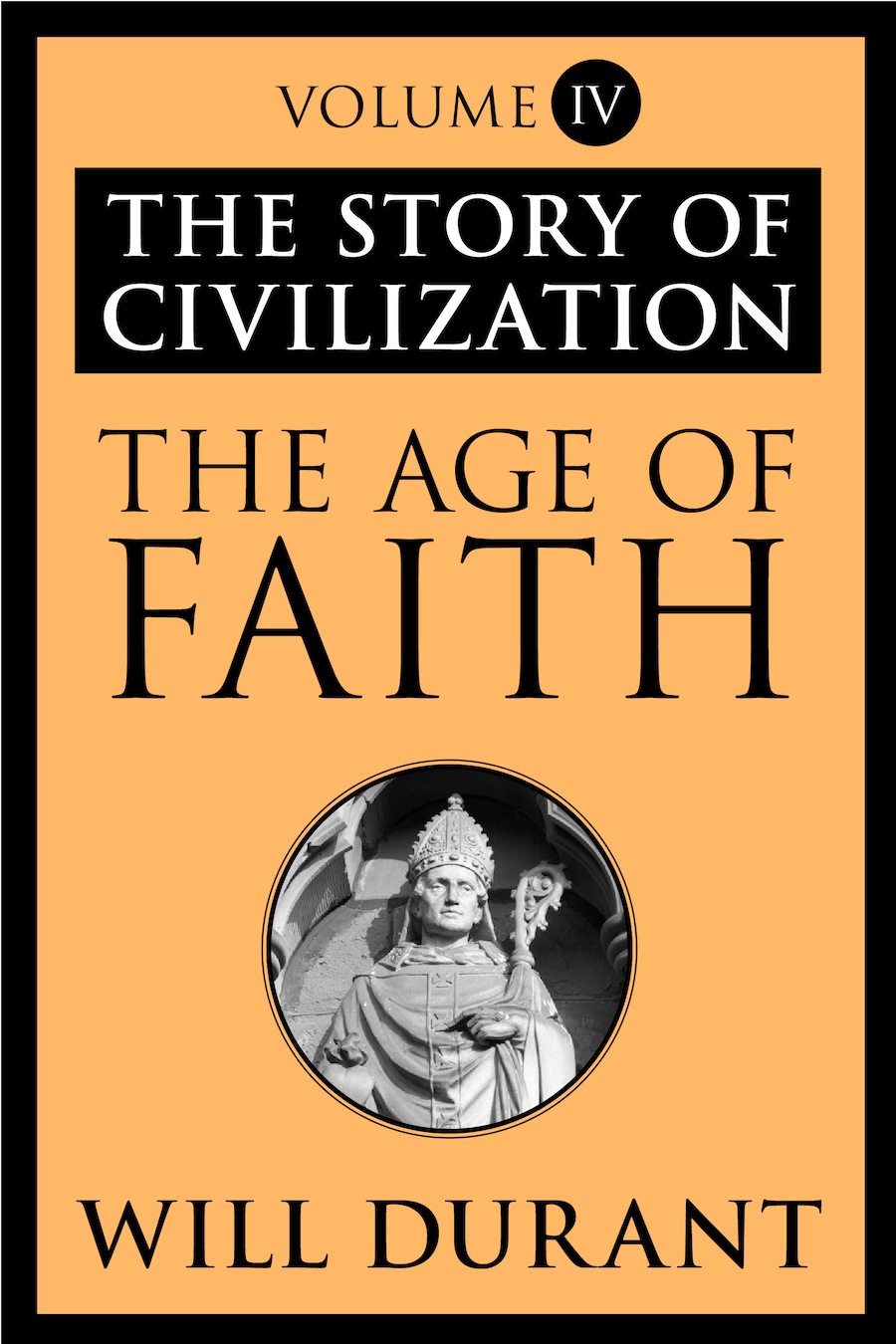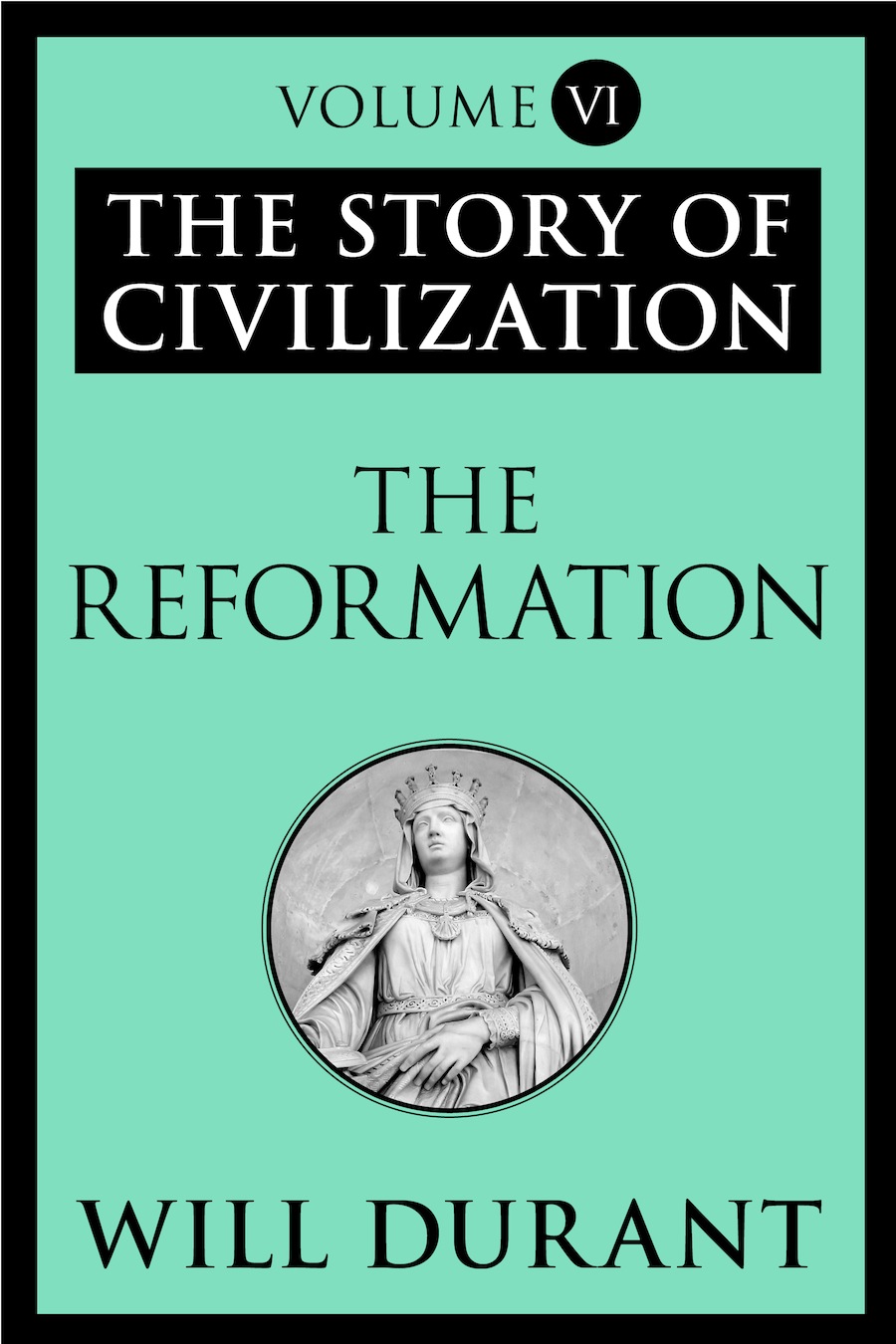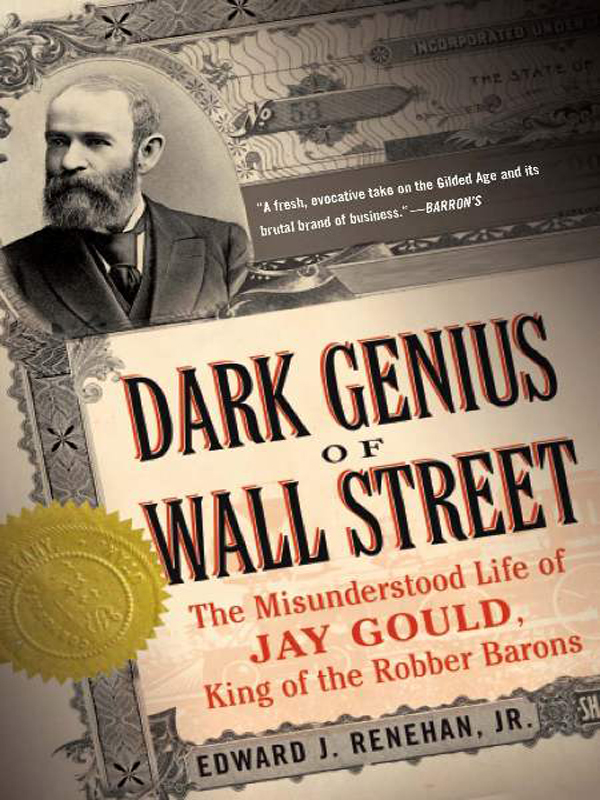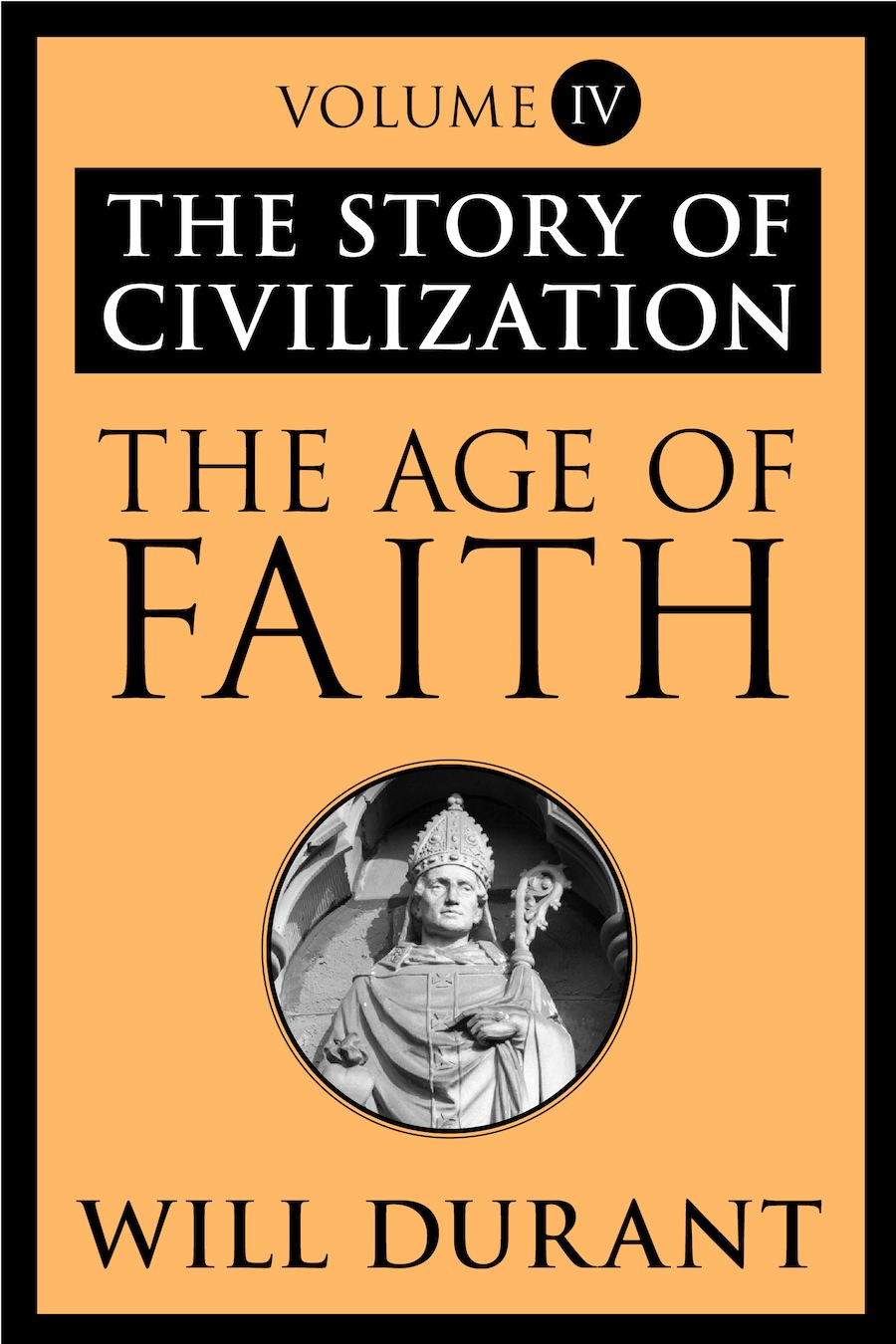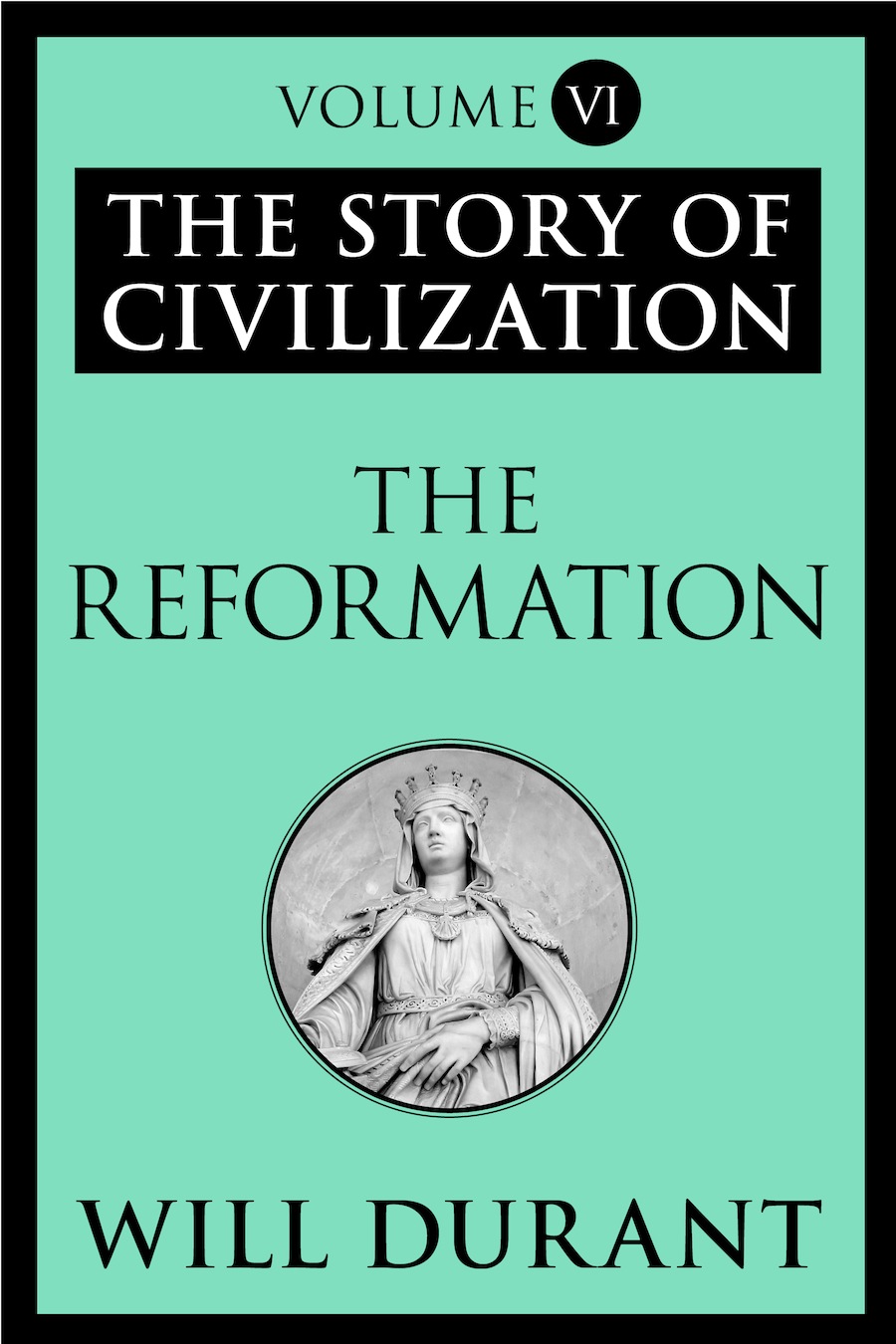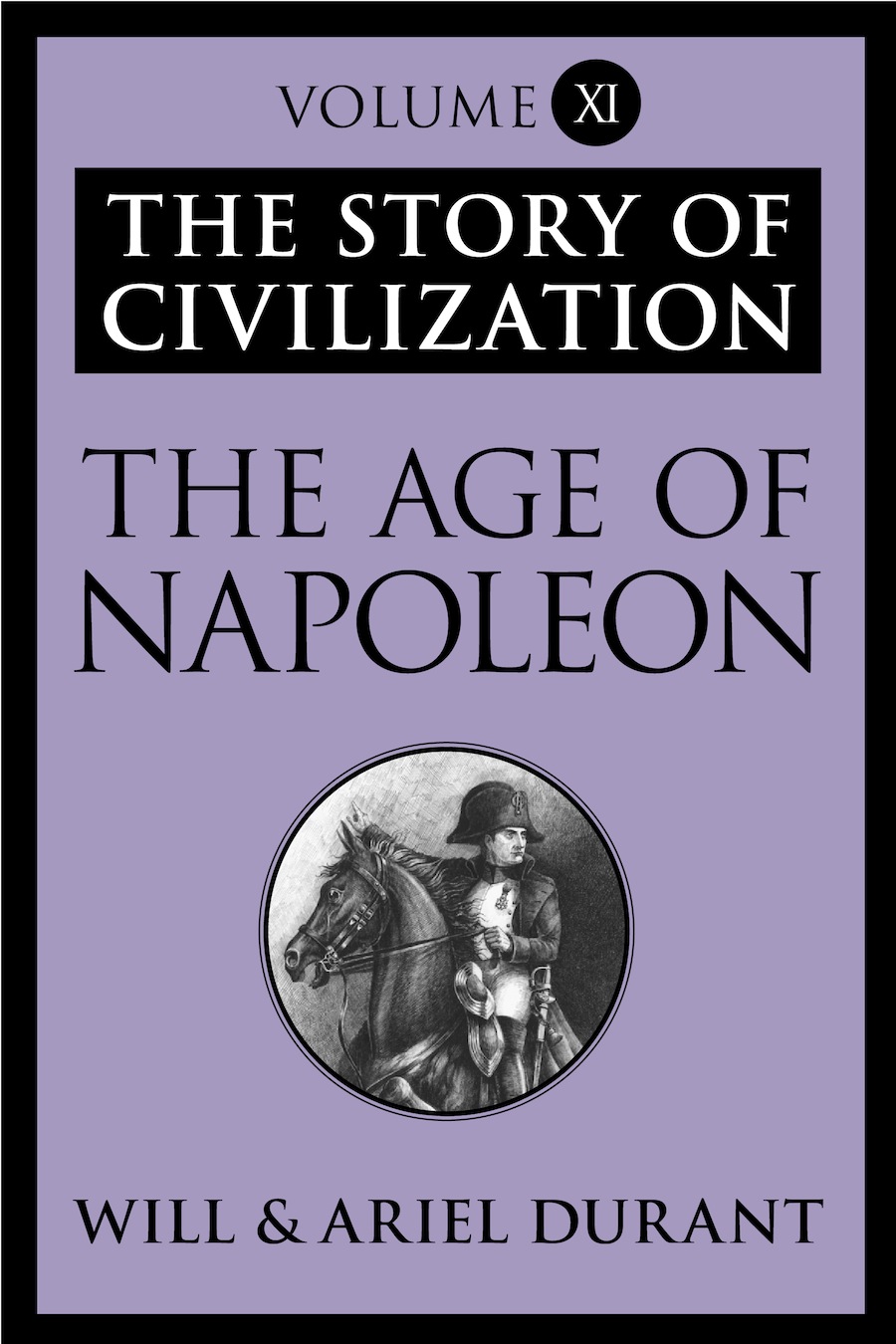смерти чистая душа возвращается к единению с Мировой Душой, и в этом единении заключено блаженство добра.71
Авиценна как никто другой достиг искомого примирения между верой людей и рассуждениями философов. Он не хотел, подобно Лукрецию, разрушить религию ради философии или, подобно аль-Газали в следующем веке, разрушить философию ради религии. Он рассматривает все вопросы только с помощью разума, совершенно независимо от Корана, и дает натуралистический анализ вдохновения;72 Но он утверждает, что люди нуждаются в пророках, которые излагают им законы морали в формах и притчах, понятных и действенных для народа; в этом смысле, закладывая или сохраняя основы социального и нравственного развития, пророк является посланником Бога73.73 Так, Мухаммед проповедовал воскресение тела и иногда описывал рай в материальных терминах; философ может усомниться в бессмертии тела, но он признает, что если бы Мухаммед учил о чисто духовном рае, люди не стали бы его слушать и не объединились бы в дисциплинированную и сильную нацию. Те, кто может поклоняться Богу в духовной любви, не испытывая ни надежды, ни страха, — высшие из людей; но они откроют это отношение только своим зрелым ученикам, а не толпе.74
Шифа и Канун Авиценны представляют собой вершину средневековой мысли и являются одним из главных синтезов в истории разума. Во многом он следовал примеру Аристотеля и аль-Фараби, как и Аристотель следовал Платону; только сумасшедшие могут быть полностью оригинальными. Авиценна иногда говорит то, что нашему ошибочному суждению кажется бессмыслицей; но это верно и для Платона и Аристотеля; нет ничего настолько глупого, что можно найти на страницах философов. Авиценне не хватало честной неуверенности, критического духа и всегда открытого ума аль-Бируни, и он совершил гораздо больше ошибок; синтез должен платить эту цену, пока жизнь коротка. Он превзошел своих соперников в ясности и живости стиля, в умении облегчить и осветить абстрактную мысль наглядным анекдотом и простительной поэзией, а также в беспрецедентном размахе своего научного и философского диапазона. Его влияние было огромным: оно простиралось в Испанию, чтобы сформировать Аверроэса и Маймонида, и в латинское христианство, чтобы помочь великим схоластам; удивительно, как много в Альбертусе Магнусе и Фоме Аквинском восходит к Авиценне. Роджер Бэкон называл его «главным авторитетом в философии после Аристотеля»;75 и Аквинский не просто проявлял обычную вежливость, говоря о нем с таким же уважением, как о Платоне.76
Арабская философия на Востоке почти умерла вместе с Авиценной. Вскоре после его кульминационного усилия ортодоксальный акцент сельджуков, испуганный фидеизм богословов, победоносный мистицизм аль-Газали наложили тромб на спекулятивную мысль. Жаль, что мы так плохо знаем эти три века (750-1050) арабской эффлоресценции. Тысячи арабских рукописей по науке, литературе и философии скрыты в библиотеках мусульманского мира: только в Константинополе насчитывается тридцать библиотек мечетей, богатство которых лишь нащупано; в Каире, Дамаске, Мосуле, Багдаде, Дели есть огромные коллекции, которые даже не каталогизированы; огромная библиотека в Эскориале под Мадридом едва ли закончила перечисление своих исламских рукописей по науке, литературе, юриспруденции и философии.77 То, что мы знаем о мусульманской мысли тех веков, — это фрагмент того, что сохранилось, то, что сохранилось, — это фрагмент того, что было создано; то, что представлено на этих страницах, — это лишь малая толика фрагмента. Когда ученые более тщательно изучат это полузабытое наследие, мы, вероятно, отнесем десятый век в восточном исламе к золотым векам в истории разума.
V. МИСТИЦИЗМ И ЕРЕСЬ
На пике своего развития философия и религия встречаются в ощущении и созерцании всеобщего единства. Душа, не тронутая логикой, слишком слабая для метафизического полета от многих к единому, от случая к закону, может достичь этого видения через мистическое поглощение отдельного «я» в душе мира. И там, где наука и философия потерпели неудачу, где краткий ограниченный разум человека пошатнулся и ослеп в присутствии бесконечности, вера может подняться к ногам Бога с помощью аскетической дисциплины, бескорыстной преданности, безусловной отдачи части целому.
Мусульманский мистицизм имел много корней: аскетизм индуистских факиров, гностицизм Египта и Сирии, неоплатонистские спекуляции поздних греков и вездесущий пример аскетичных христианских монахов. Как и в христианстве, в исламе благочестивое меньшинство протестовало против любого приспособления религии к интересам и практике экономического мира; они осуждали роскошь халифов, визирей и купцов и предлагали вернуться к простоте Абу Бекра и Омара I. Их возмущал любой посредник между ними и божеством; даже строгий ритуал мечети казался им препятствием к тому мистическому состоянию, в котором душа, очищенная от всех земных забот, поднимается не только к блаженному видению, но и к единению с Богом. Наибольшего расцвета это движение достигло в Персии, возможно, благодаря близости к Индии, христианскому влиянию в Джунд-и-Шапуре и неоплатонистским традициям, заложенным греческими философами, бежавшими из Афин в Персию в 529 году. Большинство мусульманских мистиков называли себя суфиями — от простого шерстяного одеяния (суф), которое они носили; но под этим термином скрывались искренние энтузиасты, возвышенные поэты, пантеисты, аскеты, шарлатаны и мужчины со многими женами. Их учение менялось от времени к времени и от улицы к улице. Суфии, говорит Аверроэс, «утверждают, что познание Бога находится в наших собственных сердцах после отрешения от всех физических желаний и концентрации ума на желаемом объекте».78 Но многие суфии пытались достичь Бога и через внешние объекты; все, что мы видим в мире совершенного или прекрасного, объясняется присутствием или действием божественности в них. «О Боже, — сказал один мистик, — я никогда не слушаю крик животных, или дрожание деревьев, или журчание воды, или песни птиц, или шелест ветра, или раскаты грома, не ощущая их как свидетельство Твоего единства и доказательство того, что нет ничего подобного Тебе».79 В действительности, считал мистик, эти отдельные вещи существуют только благодаря божественной силе, заключенной в них; их единственная реальность — это лежащая в их основе божественность. Поэтому Бог — это все; не только нет бога, кроме Аллаха, но и нет сущности, кроме Бога.8 °Cледовательно, каждая душа — это Бог; и полнокровный мистик бесстыдно заявляет, что «Бог и я — одно». «Воистину, я — Бог», — сказал Абу Йезид (ок. 900 г.); «Нет бога, кроме меня; поклоняйтесь мне».81 «Я — Тот, Кого я люблю, — сказал Хусейн аль-Халладж, — а Тот, Кого я люблю, — это я…Я — Тот, Кто утопил людей из Нуха….. Я — Истина».82 Халладж был арестован за