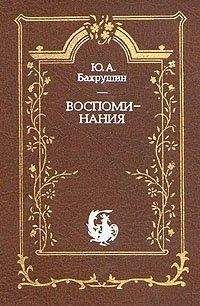— Да-а!.. — наконец с сердцем проговорил он, — Что они от меня хотят? Что им нужно? Они лезут буквально во все мои дела — в Академию, в мою семью, в мою личную жизнь! И все это под видом добрых советов, наставлений… Видите ли, я мало обращаю внимания на политические взгляды моих академиков, зачем я отдал своего сына Олега в Царскосельский лицей, а не в Кадетский корпус, — это нарушение всех традиций царской фамилии, дурной пример! Теперь о моей пьесе: они говорят, что она повод к опасной ереси, призыв к толстовству! Где там толстовство, при всем желании не могу понять!.. Иной раз начинаешь завидовать брату Николаю, который сидит себе в ссылке в Ташкенте, никто его не трогает, делает что хочет. Сколько приходится терпеть — представить трудно! Вы помните всю эту историю с Горьким, когда государь заставил отменить решение Академии об его избрании? Что мне надо было делать? Уходить в отставку! Я так и решил, а потом подумал и изменил свое намеченное решение. Ведь это было бы только па руку им. Назначили бы вместо меня какую-нибудь другую «высочайшую особу», которой бы вопросы русского искусства, науки были бы абсолютно безразличны, а многим достойным людям стало бы очень трудно работать. Я обманул их надежды и остался, но за это меня осудил противоположный лагерь. Но я по совести считаю, что поступил правильно. Ведь как-никак, а наша русская Академия сейчас располагает такими силами, которым может позавидовать любая Академия Европы. Вот только в Академии и в кругу своей семьи — я человек, я живу. А об остальном лучше не вспоминать!..
Он тяжело сел на тахту, печально улыбнулся и добавил:
— А потому давайте говорить о более интересных вещах.
В дальнейшем разговор коснулся современной поэзии. Вел. князь откровенно признался, что он не понимает теперешних символистов, хотя среди них безусловно имеются талантливые люди. Он лично считает, что задача поэзии будить добрые чувства людей, и он, по мере своих сил и возможностей, стремится идти по пути наших поэтов-классиков, у которых все просто и искренно. В его стихах на религиозные темы, так же как и в «Царе Иудейском», многие склонны видеть мистицизм. Это неверно, его к этим темам влекли поэтичность образов и высокие чувства.
Отец нам признавался:
— Здесь я уже молчал и только поддакивал. Ведь мое поэтическое образование кончалось на Майкове и Полонском. Я и вел. князя почти не знаю, кроме романсов. А о символистах почти понятия не имею, хотя со многими из них знаком.
Разговор переходил с темы на тему, совершенно не обременяя собеседников. Отец уже несколько раз пытался встать и откланяться, но вел. князь каждый раз сажал его обратно и говорил, что еще рано. Наконец, когда часы пробили три часа ночи, отец решительно встал и начал прощаться. Вел. князь подал ему пальто, стараясь не шуметь в прихожей, так как где-то поблизости спал денщик, и отпер выходную дверь. Выглянув наружу, он сказал:
— Эх, с удовольствием бы вас проводил. Очень люблю зимой ночью бродить по Петербургу, но у меня ведь еще один спектакль и боюсь простудиться.
Приехав в Москву, отец, как всегда, во всех мельчайших подробностях описал нам свои приключения. Я тогда, правда нерегулярно, вел уже дневник. В него я записал все основное из рассказа отца.
Финальный аккорд передачи музея отзвучал, но окончательная точка была поставлена несколько позже, а тем временем течение музейной жизни стало постепенно вступать в новое русло. Все чаще появлялись у нас никому не известные посетители, провинциалы, иностранцы. Газетная шумиха, поднятая вокруг передачи музея, сильно его рекламировала. Официально он еще не был открыт для широкого обозрения, посетители допускались лишь с личного каждый раз разрешения отца, но если он бывал дома, то редко кому отказывал и водил по музею сам или поручал это мне.
Наши субботние и воскресные приемы продолжались и также оживились.
В одну из суббот к нам приехал гостивший в Москве Ю. М. Юрьев. Он впервые смотрел музей. Особое внимание он уделил витрине А. П. Ленского, несколько раз к ней возвращался, подробно рассматривал экспонаты. Уже ночью, сидя за чаем, он рассказывал:
— Ведь я, собственно говоря, коренной москвич, а петербуржец по недоразумению или, скорей, силой необходимости. Случилось это так. Я был учеником Ленского, Александра Павловича. В его юбилей мы, его ученики, решили его чествовать. Накупили цветов, венков, бутоньерок и взяли литерную ложу. Отправились в театр. Вдруг какой-то театральный чиновник увидал все эти атрибуты чествования, донес начальству и получил приказ все наши подношения арестовать. Началась, естественно, словесная перепалка, в пылу которой я обругал чиновника «чиновником». После этого управляющий конторой Пчельников видеть меня не мог и, когда я кончил театральное училище, попросил убрать меня из Москвы в Петербург. Делать нечего! Вот я и служу в Питере уже более двадцати лет!
Вскоре после своего юбилея нас посетила А. А. Яблочкина, поблагодарить за поздравление и вручить отцу с матерью свою фотографию. Александра Александровна бывала у нас не раз, всегда с интересом осматривала музей и не спешила уезжать, что всегда ценили в ней мои родители. И на этот раз она обстоятельно рассказывала о Малом театре, о своих делах. Разговор коснулся М. Г. Савиной. Отец сказал, что это единственная женщина, которую он ненавидит, но всегда признавал и будет признавать ее замечательный ум.
— Да! — согласилась А. А. Яблочкина. — Она удивительно умная женщина! Помню, в начале своей артистической деятельности захотелось мне ехать служить в Петербург. Об этом узнала Савина. Вот она встретила меня и говорит: «Эх, матушка, куда вам в Петербург. Вас там съедят. Ведь у нас каждая актриса покровителя имеет». А я-то, — добавила Яблочкина, — в это время еще не понимала, что значит иметь покровителя.
Ругали методы управления Теляковского. Яблочкина вспоминала такой случай. Она была ученицей А. П. Ленского, а последнего очень не любил чиновник особых поручений при директоре В. А. Нелидов. Вот раз Ленский поручил Яблочкиной в какой-то пьесе роль старухи. Ей это не очень понравилось, но она так любила и уважала Ленского, что возражать и разговаривать с ним не стала. Во время репетиций Нелидов все время юлил около нее, возмущаясь, что дают играть старух молоденьким, хорошеньким актрисам. На спектакль приехал Теляковский. В последнем антракте к Яблочкиной подходит какой-то чиновник и говорит, что директор просит ее зайти к нему в ложу после спектакля. Яблочкина кое-как доигрывает последний акт, все время волнуясь мыслью, зачем она понадобилась Теляковскому. После конца она форменным образом бежит в ложу, где директор восседает в окружении театральных чиновников. Поздоровавшись с Яблочкиной и усадив ее в кресло, Теляковский попросил чиновников выйти, после чего обратился к ней с вопросом:
— Скажите, Александра Александровна, как вам нравится Александр Павлович Ленский?
Яблочкина сразу поняла, в чем дело, и стала отвечать на все вопросы очень осторожно. Разговор длился очень долго. Наконец, убедившись, что от нее ничего не добьешься, Теляковский вздохнул и отпустил ее домой…
В марте месяце состоялось утверждение Вл. А. Михайловского ученым хранителем музея. В конце того же месяца обсуждался и принимался план ближайших работ музея. Было решено, что все вещи, поступающие от отца, будут заноситься в инвентарную книгу и в карточный каталог. Впоследствии карточный каталог будет увеличен и станет издаваться в виде подробного каталога музея.
В начале апреля императорский двор поставил окончательную точку в деле передачи музея отца государству. Правда, эта точка более походила на кляксу.
Одним обычным утром, развернув газету, отец узнал, что ему вне очередности пожалован орден Владимира 4-й степени — то есть что он, по выражению того времени, «перепрыгнул» сразу через два ордена. Пожалование было, конечно, из ряда вон выходящее, но оно в корне нарушало условие отца, что ему никаких наград за передачу музея дано не будет. Он вспылил невероятно. Ругался, говорил, что это безобразие, что это неуважение к нему и тому подобное. Недолго думая, он сел за стол и стал писать заявление о том, что отказывается от ордена. Когда черновик был написан и отец простыл, он решил посоветоваться и позвонил Вл. Кон. Трутовскому, который и не замедлил к нему приехать.
Как сейчас помню, в кабинете отца кроме него и Трутовского сидели мы с матерью. Отец, волнуясь, прочитал свое заявление. Трутовский помолчал, подумал и попросил его себе для прочтения. Читал долго и внимательно. Снова подумал, медленно сложил в четверть… и разорвал. Отец побледнел:
— Что это значит?
— А значит это то, что это не годится и что писать такие заявления вы не будете!
— Нет, буду!
— Нет, не будете, — невозмутимо, с улыбкой сказал Трутовский.