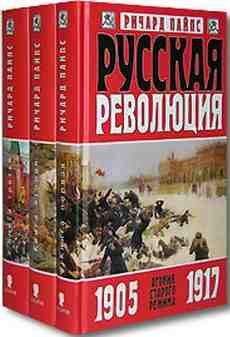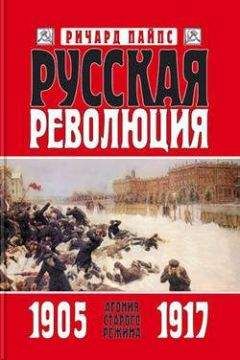Предложение, формально сделанное Временному правительству 13 марта, было подтверждено личным посланием короля Георга V императору Николаю, в котором король заверял в неиссякаемой дружбе и приглашал обосноваться в Англии. [Мартынов. Царская армия. С. 191; Buchanan G. My Mission to Russia. Boston, 1923. V.2. P. 104—105. Милюков скрыл от царя послание английского короля.].
Планы правительства в отношении императорской фамилии не принимали, однако, в расчет опасений интеллигентов-социалистов, что, оказавшись за границей, бывший монарх станет центром контрреволюционных заговоров. По этой причине они предпочитали содержать его дома под надзором. Как мы уже говорили, 3 марта Исполком проголосовал за арест царя и его семьи. Правительство тотчас же уступило требованию Исполкома и 7 марта объявило, что императорская фамилия будет содержаться под арестом в Царском, направив в Могилев четырех своих представителей для сопровождения арестованного. 8 марта, когда стало известно о переговорах с Англией, Исполком вновь вынес решение об аресте царя и его семьи, конфискации имущества и лишении гражданских прав. Чтобы воспрепятствовать отъезду бывшего царя в Англию, Исполком принял решение установить в Царском охрану из своих людей200.
Тем временем в Могилеве царь прощался с армией. 8 марта он написал прощальный приказ войскам, в котором завещал сражаться до победы и «повиноваться Временному правительству»201. Алексеев передал этот документ в Петроград, но Гучков, действуя по указанию кабинета, очевидно, не решавшегося перечить Исполкому, распорядился его задержать202. Позднее в то же утро царь прощался с офицерами Ставки. Он подходил к каждому и обнимал. Редко кто мог сдержать подступавшие слезы. Не в силах и сам вынести волнения момента, царь откланялся и вышел. «Сердце у меня чуть не разорвалось!» — записал он в дневнике203. В 4.45 пополудни он сел в свой поезд, но уже без своих вечных спутников генерала Воейкова и графа Фредерикса, которых по требованию Алексеева вынужден был отпустить. Перед отъездом Алексеев объявил царю, что тот должен считать себя арестованным204.
В этот же день, 8 марта, в Царское Село приехал генерал Корнилов, новый главнокомандующий Петроградского округа (он был назначен царем по настоянию Родзянко незадолго до отречения). Корнилов объявил императрице, что она находится под арестом, и расставил часовых во дворце и парке. Хотя эта мера была предпринята по требованию Исполкома, однако в действительности, напротив, обеспечивала безопасность императорской фамилии, ибо Царскосельский гарнизон стал вести себя дерзко и угрожающе. Согласно Бенкендорфу, Корнилов посоветовал Александре Федоровне при первой же возможности перевезти семью в Мурманск и там сесть на военный корабль, идущий в Англию205.
Императорский поезд прибыл в Царское утром 9 марта. Представленный охране как «полковник Романов», царь был немало поражен, увидев, что повсюду расставлены часовые и посты охраны и что передвижения его и членов семьи даже в пределах дворца строго ограничены. Свои апартаменты он не мог покинуть без сопровождения вооруженного охранника.
Узнав, что бывший царь уехал из Могилева, искушенные в истории интеллигенты-социалисты обеспокоились: их пугала аналогия с бегством Людовика XVI, настигнутого в Варенне. 9 марта члены Исполкома собрались в крайнем волнении. Чхеидзе заявил, что бывший царь, на самом деле находившийся в это время в Царском Селе, бежал и должен быть остановлен206. Совет решил воспретить ему покидать Россию, «хотя бы это грозило разрывом отношений с Временным правительством», и заключить в Петропавловскую крепость207. Делегация Исполкома, возглавляемая Чхеидзе, встретилась с правительством в тот же день и получила заверения в том, что царю не будет дозволено покинуть страну без разрешения Исполкома208.
Дабы убедиться, что бывший царь действительно находится в Царском, как его в этом убеждали, Исполком в тот же день (9 марта) направил туда отряд из трех сотен пехотинцев с пулеметным отделением под командованием С.Д.Мстиславского, эсеровского офицера. По прибытии на место Мстиславский потребовал, чтобы ему немедленно «предъявили арестованного». «Пусть он станет передо мной, — думал Мстиславский, — простым эмиссаром революционных рабочих и солдат, он — император, всея Великия и Малыя и Белыя Руси самодержец, как арестант при проверке в его былых тюрьмах».
«Мстиславский был в старом тулупе с пуговицами военного чиновника, с папахой на голове, при шашке и с браунингом, коего рукоять торчала из бокового кармана. Вскоре в коридор вышел бывший государь; он приблизился к группе, очевидно, желая заговорить; но Мстиславский стоял, не отдавая чести, не снимая папахи и даже не здороваясь. Государь остановился на мгновение, в упор посмотрел ему в глаза, а затем, круто повернувшись, ушел обратно». [Такое описание со слов Мстиславского приводит Мартынов (см.: Царская армия. С. 198). Бенкендорф, бывший свидетелем этой сцены, говорит, что Мстиславский удовольствовался видом проходящего по коридору бывшего царя (Benckendorff Last Days. P. 49—50)].
Благодаря мерам, предпринятым Корниловым209, императорская семья была отрезана от окружающего мира: ни один человек не мог попасть в Царское без позволения, все письма и телеграммы просматривались, телефонные разговоры прослушивались.
21 марта в Царском неожиданно объявился Керенский. Ему впервые довелось встретиться лицом к лицу с тем, кто был предметом самых яростных его думских выступлений. Описание Керенским этой встречи и впечатления, какое произвел на него царь, весьма любопытно:
«Вся семья в полной растерянности стояла вокруг маленького столика у окна смежной комнаты. От этой группы отделился невысокий человек в военной форме и нерешительно, со слабой улыбкой на лице направился ко мне. Это был Николай II. На пороге комнаты, в которой я ожидал его, он остановился, словно не зная, что делать дальше. Встретить ли меня в качестве хозяина или подождать, пока я заговорю? Протянуть ли мне руку или дождаться, пока я первым поздороваюсь с ним? Я сразу же почувствовал его растерянность, как и беспокойство всей семьи, оказавшейся в одном помещении с ужасным революционером.
Я быстро подошел к Николаю II, с улыбкой протянул ему руку и отрывисто произнес: «Керенский», как делал обычно, представляясь кому-либо. Он крепко пожал мою руку, улыбнулся, почувствовав, по-видимому, облегчение, и тут же повел меня к семье. Его сын и дочери, не скрывая любопытства, внимательно смотрели на меня. Александра Федоровна, надменная, чопорная и величавая, нехотя, словно по принуждению, подала мне руку. В этом проявилось различие в характере и темпераменте мужа и жены. Я с первого взгляда понял, что Александра Федоровна, умная и привлекательная женщина, хоть и сломленная сейчас и раздраженная, обладала железной волей. В те несколько секунд мне стала ясна трагедия, которая в течение многих лет разыгрывалась за дворцовыми стенами. Несколько последовавших за этим встреч с царем лишь подтвердили мое первое впечатление...
Склад ума и обстоятельства жизни царя обусловили его полную оторванность от народа. Он знал о пролитой крови и слезах тысяч людей лишь из официальных документов, в которых ему сообщали о «мерах», принятых властями «в интересах мира и безопасности государства». Эти доклады не доносили до него боли и страданий жертв, в них лишь говорилось о «героизме» солдат, «преданно выполнявших свой долг перед царем и отечеством». С детства его приучили верить, что его благо — это благо страны, а потому «вероломные» рабочие, крестьяне и студенты, которых расстреливали, казнили или отправляли в ссылку, казались ему чудовищами, отбросами человечества, которых следует уничтожить ради интересов страны и его «верноподданных»...
В каждую из своих редких и кратких поездок в Царское Село я стремился постичь характер бывшего царя. Я понял, что его ничто и никто не интересует, кроме сына и, быть может, дочерей. Такое безразличие ко всему внешнему миру казалось почти неестественным. Наблюдая за выражением его лица, я увидел, как мне казалось, что за улыбкой и благожелательным взглядом красивых глаз скрывается холодная, застывшая маска полного одиночества и отрешенности. Он не захотел бороться за власть, и она просто-напросто выпала у него из рук. Он сбросил эту власть, как когда-то сбрасывал парадную форму, меняя ее на домашнее платье. Он заново начинал жизнь — жизнь простого, не обремененного государственными заботами гражданина. Уход в частную жизнь не принес ему ничего, кроме облегчения. Старая госпожа Нарышкина передала мне его слова: «Как хорошо, что не нужно больше присутствовать на этих утомительных приемах и подписывать эти бесконечные документы. Я буду читать, гулять и проводить время с детьми». И это, добавила она, была отнюдь не поза.