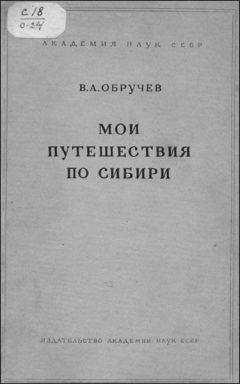Поэтому я немало изумился, когда быстрее чем через год, в июне 1925 года, получил с надписью от Махмуда Теймура два томика его рассказов. И в них сразу чувствовалось, что занятие литературой для автора не дилетанство и не забава, а серьезное дело, над которым надо систематический основательно трудиться. Вдумчивые вводные статьи говорили о больших требованиях, которые ставит себе писатель, об основательной литературной школе, которую он считает обязательной для себя. В самых рассказах я сразу уловил живое дыхание всей египетской среды, и городской, и той феллахской, которую писатель знал и чувствовал так же хорошо. В литературной манере я с немалым удовлетворением замечал воздействие не только Мопассана, но и Чехова. Как год тому назад я с поспешностью проглатывал три больших тома сочинений Мухаммеда Теймура, так и теперь, точно задыхаясь, я прочел без остановки два томика Махмуда Теймура. Я не утерпел и на первой же лекции в Университете, прервав изложение, шедшее по программе, заявил, что в арабской литературе создана своя оригинальная новелла и, если я не слишком ошибаюсь, Махмуду Теймуру в развитии ее будет принадлежать видная роль. В готовившуюся у нас хрестоматию новой арабской литературы мы сразу включили один его рассказ и с конца 20-х годов студенты начинали знакомство с современной литературой обыкновенно с него. Я не скрыл своего впечатления от автора. В большом письме я всячески поддерживал его стремления на избранном пути: невидимому, это действовало, и, когда приблизительно через год пришел от него третий сборник рассказов, в приложении к нему я увидел напечатанным почти целиком мое письмо.
С этого времени раз или два в год я получал новый томик его рассказов: до второй мировой войны у меня стояло на полочке уже четырнадцать книжек, не считая повторных изданий. Я с радостью видел, как крепнет его талант, как в упорной работе все отчетливее вырисовывается его собственный индивидуальный облик. Его деятельность постепенно создавала школу в литературной жизни не только Египта, но и других стран. К его голосу начинали прислушиваться и в Сирии, и в Ираке: все чаще и чаще с полным правом его называли главой современной новеллы. Произведения его стали проникать и в Европу, появляясь изредка в переводах на западные языки. Я чувствовал, что не ошибся в своей оценке с первого взгляда.
Наша связь поддерживалась не только его произведениями. Он щедро слал мне новинки литературы, радуясь моим откликам на труды его земляков и их быстрый прогресс в разнообразных областях. Постепенно мы привыкали беспокоить его по всяким вопросам – когда надо было разъяснить встретившееся затруднение при работе над словарем нового литературного языка или узнать про какие-нибудь переводы произведений Горького на арабский. Как в свое время его отец, Махмуд Теймур на все отвечал внимательно и серьезно, не жалея труда; разница была только в том, что новые времена сказывались и часто письма писались не от руки, а на машинке.
Иногда между строк я чувствовал, что симпатия наша обоюдна, что мы, никогда не видав друг друга, нашли то внутреннее родство, о котором писал Рейхани, что мы не чужие друг другу. Особенно трогательно я ощутил это в 1935 году, когда в мои руки попал номер одного каирского журнала, где я вдруг увидел статью Теймура о себе. Мне хочется привести из нее отрывок, как я привел окончание разговора с чистильщиком сапог, – не для того, чтобы „величаться“, а чтобы, как выражаются дервиши, „поведать о милости“ рассказать про счастье, которое иногда выпадает человеку в людской оценке даже в далекой стране, у чужого народа, где, кажется, и люди иные.
Теймур писал: „Лет десять тому назад, под вечер, я пошел навестить своего покойного отца, как всегда делал, в его отдельном доме в квартале Замалек, где он жил в одиночестве среди книг, удалившись от мира. Я вошел к нему в рабочую комнату и застал его за столом среди груды книг и тетрадей, как всегда по обыкновению что-то просматривающим и записывающим. Почувствовав мой приход, он поднял голову, снял очки для работы и попросил меня сесть. Взор мой упал на фотографический снимок какой-то мусульманской могилы, который лежал среди массы листов, громоздившихся у него на столе. Я спросил его об этом. Он улыбнулся и сказал: «Это фотография могилы шейха Тантави, похороненного в России». Удивился я этому уроженцу нашей Танты, который выбрал для себя кладбище в стране Русов, и попросил отца разъяснить обстоятельства. Он стал мне рассказывать об этом египетском ученом, который уехал далеко, в Россию, в прошлом веке, чтобы обучать арабскому языку и литературе в Петербургском университете, как он назывался тогда. Он жил там, пока не пришла к нему смерть, и там был похоронен. А теперь нашелся среди профессоров-ориенталистов, кто задумался об этом египетском ученом, исследует его биографию и пишет работу о нем, чтобы увековечить его память.
„Меня увлек этот рассказ. Я стал рассматривать фотографию, восхищаясь и гордясь этим профессором-ориенталистом, который принялся за одного из наших забытых ученых, рассказывает про его жизнь во всеуслышание и превозносит его память. Вместе с этим, он развернет страницу нашей преданной забвению истории и укрепит воспоминание о нашей стране среди наших далеких друзей. Я поднял голову и посмотрел вопросительно на отца. Он прочел по глазам мои мысли и добавил:“
– «Автор этого исследования – русский профессор Крачковский».
„С этого момента я полюбил профессора Крачковского и почувствовал в глубине сердца, что он не чужой для меня. Позже я увидел его фотографию. Меня поразил в ней отпечаток серьезности, отраженный на его лице, и какой-то удивительный свет, струящийся из глаз, свет доброты и искренности. Путем переписки я познакомился с профессором и нашел в нем человека со стойким характером, твердой волей и широкой культурой. Больше тридцати лет жизни он отдал на службу арабскому языку и литературе. Он не ослаб и не заколебался, но упорно трудился и трудился, пока не овладел наукой и не углубился в нее. Он стал вершиной, твердо утвердившейся среди ее вершин, и силой среди могучих ее сил.“
„Я не забуду первое письмо, которое пришло ко мне от профессора. Я смотрел на него в смущении и растерянности. Почерк – арабский, красивый и чистый, по своей ясности я симметричности напоминающий шрифт пишущей машины. Им управляет тонкая душа со здравым вкусом в выражениях, простоте и спокойствии; все с удивительной последовательностью и редкой отчетливостью. Мной овладело тихое чувство с некоторой долей гордости от того, что есть такой большой друг у нас – арабов – в дальних странах, который отдал свою жизнь на службу нашей литературе, чтобы возвысить наш авторитет.“
„Моя связь с профессором усиливалась, и переписка между нами продолжалась. Он подарил мне много своих сочинений на русском языке. Года проходили, и мое знакомство с профессором все расширялось. И каждый раз, как я узнавал о нем что-нибудь новое, моя любовь к нему крепла и уважение росло…“
„Пишу я это краткое слово в связи с чествованием профессора в России. Я шлю ему искреннейший привет, выражая чувства дружбы и благодарности, которые питает к нему весь арабский мир, а в частности народ Египта. Ведь человек, который всю свою жизнь посвятил ознакомлению западного мира с арабской культурой, который открыл нам путь, чтобы занять наше место среди мировых литератур, достоин высочайшего сана в наших сердцах“.
Махмуд Теймур (Род. в 1894)
Михаил Нуайме (Род, в 1889)
Мне думается, что только при такой благожелательности и доброй воле, которая сквозит в этик строках, возможно укрепить „связи братства и мира среди народов“, о которых писал когда-то „философ долины Фрейки“ – Рейхани.
Вторая мировая война оторвала меня от арабов и арабской литературы, как тридцать лет тому назад первая. По случайно проскальзывавшим газетам и рецензиям все же я знал, что Теймур по-прежнему неустанно работает и даже, как его брат, стал пробовать с успехом свои силы на драматическом поприще. Доходившие сведения говорили, что он стал любимым и общепризнанным классиком родной современной литературы. Еще отчетливее сказала мне об этом одна из первых попавших в мои руки после войны книг – большая монография 1944 года о его творчестве молодого арабского критика. Уже пробегая ее для первого ознакомления, я сразу натолкнулся на одно место, над которым не мог не остановиться. Автор писал: „Не приходится сомневаться, что тот класс, к которому больше всего склоняется любовь Теймура, – это феллахи… Ему помогает в этом близкая связь с деревней и воспоминания детства, которое он провел „в местах, где собираются феллахи, слушал их беседы, радовался их песням и играл в мяч на гумне. Теймур-аристократ сохранил непреодолимую любовь к этому униженному классу египетского народа – единственно египетскому по своей основе…“