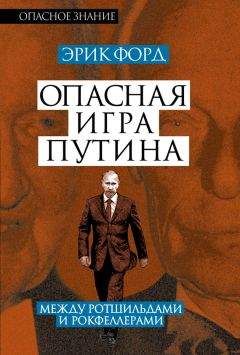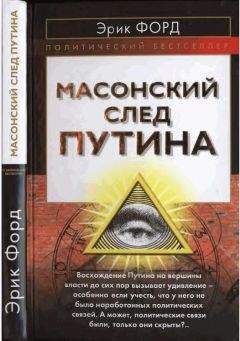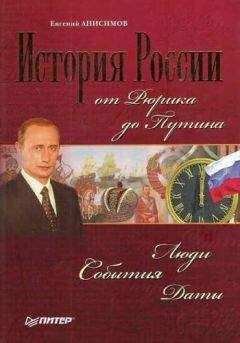палачом Малютой Скуратовым, значатся 1490 человек, а всего в Новгороде погибло, по разным оценкам, от 4–5 тысяч (по данным историка Руслана Скрынникова) до 10–15 тысяч человек (по данным историка Владимира Кобрина) – и это при общем количестве населения города в 30 тысяч человек!
Опричники убивали не только жителей собственно Новгорода, но и всей новгородской земли, разъехавшись на 200–300 миль по ее окрестностям. Русская летопись, приводимая в книге «Повесть о походе Ивана IV на Новгород» (Москва, 1969) сообщает, что царь Иван велел обливать новгородцев зажигательной смесью и затем, обгорелых и еще живых, сбрасывать в реку Волхов; иных перед утоплением волочили за санями; «а жен их, и мужеского, и женского пола младенцев» он повелел вязать по рукам и ногам, «младенцев к матерям своим», и «с великой высоты метать их в воду». Кроме того, царь устроил в Новгороде настоящий ад, каким он описан в церковных преданиях, – людей жарили в раскаленной муке, заживо варили в котлах, резали на части. Новгородский летописец рассказывает, что были дни, когда число убитых достигало полутора тысяч; а дни, в которые избивалось 500 − 600 человек, считались счастливыми.
Общее число жертв жестокого царя неизвестно, но все современники единодушны в том, что после Ивана Грозного русская земля «сильно запустела». Не случайно русские с запредельным ужасом проходили мимо места его захоронения в Архангельском соборе Московского Кремля; они крестились и просили Бога, чтобы царь Иван не воскрес.
* * *
Первым подробный анализ правления Ивана Грозного провел «отец русской истории» Николай Карамзин. По своим убеждениям он был убежденным монархистом: по его мнению, Иван Грозный стал тем испытанием для России, которое должно было проверить на прочность приверженность народа к самодержавию и православию. Вот как Карамзин пишет об этом в своем обширном исследовании «История Государства Российского»:
«Между иными тяжкими опытами Судьбы, сверх бедствий Удельной системы, сверх ига Моголов, Россия должна была испытать и грозу самодержца-мучителя: [Россия] устояла с любовью к самодержавию, ибо верила, что Бог посылает и язву, и землетрясение, и тиранов; не преломила железного скипетра в руках Ивановых и двадцать четыре года сносила губителя, вооружаясь единственно молитвою и терпением…
В смирении великодушном страдальцы умирали на лобном месте, как греки в Фермопилах за отечество, за Веру и Верность, не имея и мысли о бунте. Напрасно некоторые чужеземные историки, извиняя жестокость Иванову, писали о заговорах, будто бы уничтоженных ею (сейчас эту традицию подхватили российские апологеты Ивана Грозного, но об этом позже. – Э.Ф.): сии заговоры существовали единственно в смутном уме Царя, по всем свидетельствам наших летописей и бумаг государственных. Духовенство, бояре, граждане знаменитые не вызвали бы зверя из вертепа Слободы Александровской, если бы замышляли измену, взводимую на них столь же нелепо, как и чародейство. Нет, тигр упивался кровью агнцев – и жертвы, издыхая в невинности, последним взором на бедственную землю требовали справедливости, умилительного воспоминания от современников и потомства!..
Жизнь тирана есть бедствие для человечества, но его История всегда полезна, для Государей и народов: вселять омерзение ко злу есть вселять любовь к добродетели – и слава времени, когда вооруженный истиною писатель может, в правлении Самодержавном, выставить на позор такого Властителя, да не будет уже впредь ему подобных! Могилы бесчувственны; но живые страшатся вечного проклятия в Истории, которая, не исправляя злодеев, предупреждает иногда злодейства, всегда возможные, ибо страсти дикие свирепствуют и в веки гражданского образования, веля уму безмолвствовать или рабским гласом оправдывать свои исступления.
…Если иго Батыево унизило дух Россиян, то без сомнения не возвысило его и царствование Иваново».
В конце XIX века Василий Ключевский, являющийся признанным классиком русской исторической науки, так писал об Иване Грозном («Исторические портреты»):
«Иван рано осиротел – на четвертом году лишился отца, а на восьмом потерял и мать. Он с детства видел себя среди чужих людей… Как все люди, выросшие среди чужих, без отцовского призора и материнского привета, Иван рано усвоил себе привычку ходить, оглядываясь и прислушиваясь. Это развило в нем подозрительность, которая с летами превратилась в глубокое недоверие к людям.
Безобразные сцены боярского своеволия и насилий, среди которых рос Иван, были первыми политическими его впечатлениями. Они превратили его робость в нервную пугливость, из которой с летами развилась наклонность преувеличивать опасность, образовалось то, что называется страхом с великими глазами. Вечно тревожный и подозрительный Иван рано привык думать, что окружен только врагами, и воспитал в себе печальную наклонность высматривать, как плетется вокруг него бесконечная сеть козней, которою, чудилось ему, стараются опутать его со всех сторон. Это заставляло его постоянно держаться настороже; мысль, что вот-вот из-за угла на него бросится недруг, стала привычным, ежеминутным его ожиданием. Всего сильнее работал в нем инстинкт самосохранения…
По природе или воспитанию он был лишен устойчивого нравственного равновесия и, при малейшем житейском затруднении, охотнее склонялся в дурную сторону. От него ежеминутно можно было ожидать грубой выходки: он не умел сладить с малейшим неприятным случаем. В 1577 г. на улице в завоеванном ливонском городе Кокенгаузене он благодушно беседовал с пастором о любимых своих богословских предметах, но едва не приказал его казнить, когда тот неосторожно сравнил Лютера с апостолом Павлом, ударил пастора хлыстом по голове и ускакал со словами: «Поди ты к черту со своим Лютером».
В другое время он велел изрубить присланного ему из Персии слона, не хотевшего стать перед ним на колена. Ему недоставало внутреннего, природного благородства. Он был восприимчивее к дурным, чем к добрым впечатлениям. Он принадлежал к числу тех недобрых людей, которые скорее и охотнее замечают в других слабости и недостатки, чем дарования или добрые качества. В каждом встречном он прежде всего видел врага…
Черты его личного характера дали особое направление его политическому образу мыслей, а его политический образ мыслей оказал сильное, притом вредное влияние на его политический образ действий, испортил его.
Одностороннее, себялюбивое и мнительное направление его политической мысли при его нервной возбужденности лишило его практического такта, политического глазомера, чутья действительности, и, успешно предприняв завершение государственного порядка, заложенного его предками, он незаметно для себя самого кончил тем, что поколебал самые основания этого порядка. Карамзин преувеличил очень немного, поставив царствование Ивана по конечным его результатам наряду с монгольским игом и бедствиями удельного времени…» [Конец цитаты].
* * *