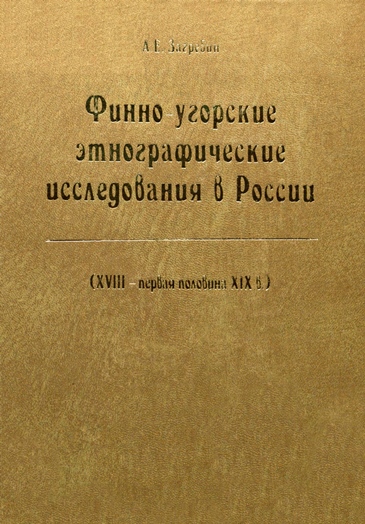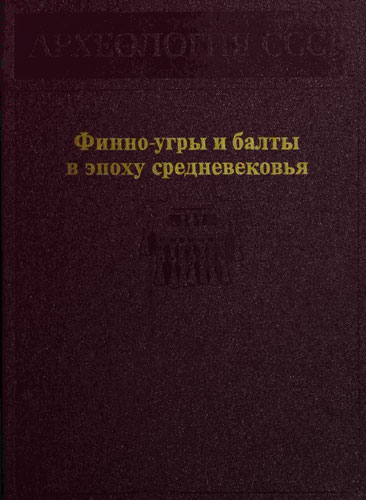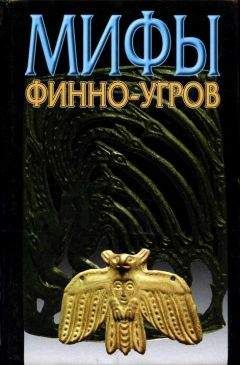школе «малых детей арифметике», отливал пушки и мортиры и обучал местных военачальников, «как в поле и в лагерях поступать по европейскому обычаю». Российская империя в этом случае представлялась уникальным местом на периферии Европы, где на огромной площади сосуществовали различные экономические уклады, религиозные традиции и народы, жившие по сути дела в разных исторических периодах, изучение которых могло дать обильную пищу для размышлений интеллектуалам и необходимые основания для принятия властных решений просвещенным бюрократам.
Петровские преобразования в области «книжного учения» находили благожелательный отклик как со стороны прозападно настроенной российской элиты, так и самого Запада, интеллектуальные круги которого с интересом следили за превращением жителей самых отдаленных уголков Московии в население регулярного устроенного светского государства. Один из наиболее последовательных сторонников этой линии, В.Н. Татищев считал важнейшей задачей правительства просвещение народов Урало-Поволжья и Сибири. С одобрением он отзывался о Швеции, где «...для лапландцев книги на их языке напечатаны». И продолжал: «Лапландцы, что у нас и гораздо дичее, нежели Мордва, Чюваша, Черемиса, Вотяки, Тунгусы и прочие», и последних «весьма легче научить». Сообразно с этим, он предлагал создать целую сеть школ для изучения «нужнейших языков» (в Санкт-Петербурге, Казани, Оренбурге, Астрахани, Архангельске, Тобольске и т.д.). Одну из таких миссионерских школ при Зилантовском монастыре в Казани посетили в 1733 г. Г.Ф. Миллер и И.Г. Гмелин, причем последний описал ее устройство с почти свифтовским сарказмом: «Мы страстно хотели видеть его и скоро увидели: это была машина, имеющая вид цилиндра, на которой висел сюртук. Она имела голову с узким лбом, острым носом и бледными щеками. Около этой машины, которая вслед тем была выдана за философа, стояли чувашские, черемисские, мордовские, калмыцкие и татарские мальчики, которые этой машиной ежедневно наставляемы были в философии. Хотя они еще немного умели по-русски, но машина эта ухитрялась как-то вместе с языком (русским) сообщать им философию». В более сдержанных формах они восприняли информацию о миссионерских проектах казанских властей, предполагавших учредить еще четыре школы, для обучения будущих проповедников христианства среди инородческого населения губернии. Иронию академиков можно списать на их молодость, но при желании в ней можно разглядеть зарождающееся в ученом сообществе сомнение в способности государственных институтов с их жесткостью и механицизмом придать инновационные импульсы традиционному обществу. Тем не менее, при всем несовершенстве обучающих технологий миссионеров, практическая значимость их опытов проявляется в приобщении ранее бесписьменных народов к книжной культуре. Так, фольклорный текст эпического сказания, обычая и обряда начинал сосуществовать с буквами Закона Божьего и закона государственного.
Впрочем, дух эпохи повлиял на некоторых ее просвещенных сыновей еще в том отношении, что они сами, стремясь быть учителями, не стеснялись перенимать полезные новшества из жизни простодушных. Примером тому является история шведского офицера И.А. Гриппенхейма, находившегося на поселении в Казанской губернии. Его любознательность распространилась на изучение традиций бортевого пчеловодства, практикуемого местными финно-уграми, предположительно мордвой. Вернувшись из плена на родину и став губернатором одной из провинций, он подал королю специальную записку о приобретенном опыте, а затем много способствовал развитию пчеловодного промысла шведскими крестьянами. В этом случае знакомство с «натуральной» жизнью можно интерпретировать как своего рода откровение для «просвещенных», увидевших как много было потеряно их цивилизацией с точки зрения естественной гармонии. Варварство, отсталость и «глупость» дикарей порой оказывались много привлекательней регламентированного и лишенного импровизации общественного бытия. Желание некоторых просветителей вернуть утраченную пастораль приводило к конструированию новой/старой реальности, достижимой для одних путем литературной деятельности, для других — разработкой практических проектов. Как писал об этом И.Г. Гердер «...если мы услышим, что народы, которые в течение целых столетий и даже тысячелетий или по ту сторону гор, в бескрайних соленых и песчаных морях Татарии жили в лесах и тундрах северной Европы, даже и в прекраснейшие долины римской и греческой империи принесли с собой образ жизни вандалов, готов, скифов, татар, образ жизни, отдельные черты которого до сих пор присущи Европе, так нам не следует удивляться этому и не следует ложным образом приписывать себе некое подобие культуры, а нам нужно... заглянуть в зеркало истины, узнать в нем свой собственный облик и, если окажется, что мы все еще носим на себе звонкие украшения наших отцов-варваров, благородно заменить их подлинной культурой и гуманностью...».
Просвещенческий, или скорее «руссоистский» пафос, звучащий в трудах ученых-путешественников, значительно усиливается к концу XVIII в., когда преобразование страны мыслилось уже не только под влиянием действий властей, но и как результат движения снизу, со стороны простого народа, привыкшего рассчитывать только на себя.
Идеализация народного быта и нравов становится особенно заметна в дневниках участников Академической экспедиции, когда профессор И.П. Фальк и его спутники не стесняясь выражали свое восхищение открытой трудовой жизнью многонационального российского крестьянства. И.И. Лепехин уже на первых страницах своего дневника рисует следующую пастораль: «Столь приятен был вид трудящихся сельских жителей. Всякой тут со своим семейством прилагал труды к трудам, и сельския Нимфы облегчали труд возлюбленных для их предметов простым своим пением...». В то же время, для финского просветителя Х.Г. Портана был присущ более сложный спектр воззрений на простой народ. Портановский «народ» велик своим героическим прошлым, но даже в нем были темные страницы варварства и разного рода невежества. Знание народной истории было для него в значительной мере средством для воодушевления соотечественников, которым следовало смелее идти вперед по пути цивилизации.
Так, жизнь больше похожая на интеллектуальную робинзонаду удивительным и одновременно логическим путем позволила просвещенным и ученым найти своего доброго дикаря, которому предстояло стать Пятницей. Или другими словами — оторвавшийся от начал природного бытия рациональный человек пошел навстречу «наивному», в образе жизни которого увидел больше правды, творчества и смысла. Неслучайно, просвещенческая направленность, характерная для научных произведений описываемой эпохи, дополняется многими авторами распространенной со времен средневековья идеей порицания городских спесивцев, противопоставляемых поселянам-простецам, что составит вскоре один из краеугольных камней мировоззрения ученых-романтиков. Как бы то ни было, на протяжении всех этапов истории этнографического финно-угроведения неизменной останется великая идея о том, что дело, начатое просвещенными, должно быть продолжено и завершено просвещаемыми...
Ф.И. Страленберг (Табберт) — путник в «странах полуночных»
Начало века Просвещения в Европе, с присущим ему интересом к человеку, к наукам и стремлением к гармонии, было, тем не менее, ознаменовано долгими войнами, ведущимися просвещенными монархами, и бедствиями народов. Но