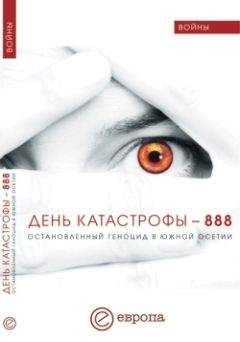Половецкие ханы объясняли, что им необходимо сразиться с печенегами, их смертельными врагами, которые к тому же были всегда врагами греческого императора. Византийцы благодарили половцев за дружеское расположение, но учтиво просили их воротиться назад. Им было сказано, согласно Анне Комнине: «В настоящее время мы не нуждаемся в вашей помощи; получите дары и возвращайтесь домой». Степные хищники были на этот раз сговорчивы, нашли подарки удовлетворительными и ушли с миром. Такая смиренная покорность заставляет думать, что не без тайного наущения из Константинополя они поспешили из своих степей припугнуть печенегов.
Половцы ушли, а печенеги начали грабить города и села, лежащие поблизости к Балканам. Освобожденные византийским золотом от страшного столкновения с половецкими единоплеменниками, варвары вовсе не думали соблюдать мирного договора с империей. Расточивши множество казны на выкуп пленных и на умиротворение половцев и не имея достаточно военных сил, император очутился в самом затруднительном положении. Он мог противопоставить печенегам частную, так сказать, партизанскую войну — нападать на печенежские отряды в городах, ими занятых, когда они отдыхали после грабежа и попойки. Это не помешало вероломным наездникам занять Филиппополь, куда их уже давно звали богомилы, и рассыпаться мелкими загонами по всей долине реки Марицы. Они захватили Кипселлу и беспокоили самую столицу. Не видя никаких средств остановить этот бедственный разлив диких орд, Алексей принужден был искать мира. Анна Комнина с необычной у нее скромностью пишет, что ее отец просил мира у печенегов. Из другого источника мы узнаем, что, несмотря на всю безысходную опасность положения, византийские приличия были соблюдены и дело было поведено так, как будто сами печенеги, грозившие Константинополю, умоляли о мире.
Недолгий отдых куплен был у печенегов перед наступлением зимы 1089—1090 годов. В январе с обычным придворным церемониалом был отпразднован день Богоявления. Знаменитый в то время оратор, глава риторической школы Феофилакт, вскоре вступивший на болгарскую кафедру, держал требуемую церемониалом речь к императору. Сильным и красноречивым, хотя несколько риторическим языком описав ужас печенежского нашествия, оратор продолжал: «Тем не менее страх, наведенный на них тобою (Алексеем), заменил десятитысячное войско и принудил их дать отдых своим коням, воткнуть в землю копья и сложить щиты. Но я едва не забыл о хитрой проделке скифа. Он искал мира, но прислал послов, которые не сами просили мира, а готовы были дать мир просящему. Император угадал обман варваров, превзошел Омировых ораторов, то резко и отрывисто обвиняя скифа, то держа речь подобно зимней вьюге (Iliad. HI, v. 222). Посрамленные, они (послы) признались, что жаждут мира, издали почувствовав силу твоего огня. И те, которые едва знали другое решение, кроме крови, вверились грамоте и договору. О, счастливый день! О, славные руки императора, одержавшие победу, прежде чем началась война… Если бы война была увенчана миром после опасностей труда военного, после потоков крови, то и это было бы великим делом. Теперь же мы видели дело гораздо более достойное удивления: враги не дождались сражения, но, осудив себя, сами произнесли справедливое решение. Только в этом они не были скифами и варварами, что прежде беды приняли благоразумнейшее решение… Другой не принял бы посольства, показал бы большую, чем следует, суровость, поднял бы брови выше надлежащего и не прежде отказался бы от мести, чем насытил бы зверя в своем сердце скифской кровью. Но ты и в том показал небывалый пример, что не захотел попирать ногами лежащих, не оттолкнул просящих милости… Не царское, не божественное дело — находить удовольствие в мести, но злое и дьявольское, свойственное злым натурам и злым силам… Итак, ты дал мир ищущим его и возвратил Римской империи многие города, как матери пленных дочерей. Теперь земледелец спит и видит безмятежные сны благодаря твоему о нас бдению; ему не снится, что вот его преследуют, настигают, ловят, вот уже связывают, вот заносят меч над ним; но взошло солнце, и он исходит на делание свое даже до вечера. Солнце пошло на запад, и он оставляет работу; устрояет без страха полную трапезу и, наполнив свободную чашу, поздравляет себя с твоей силой, с презрением и отвращением вспоминает о Скифах, шутит с домашними, сладко их обнимает, напоминая, что он видит все это и они его видят — благодаря Великому Алексею».
Странные речи в устах человека глубоко образованного и, как увидим ниже, умеющего говорить языком истины, любви христианской и гуманности. До того прониклась горделивой ложью официальная Византия, что и ее лучшие люди спокойно плавали в ней, как в привычной стихии. Не пришлось совсем несчастному земледельцу Фракии и Македонии увидеть те счастливые дни, о которых бредила придворная риторика.
Оставив Кипселлу, печенеги расположились недалеко от Адрианополя — в Таврокоме и провели здесь зиму. Жители Адрианопольской области своими слезами могли бы свидетельствовать о том, что законы цивилизованных стран не писаны для диких кочевников. Сам император Алексей, серьезно выслушивавший обязательную лесть, не обманывал себя насчет продолжительности мира с печенегами. Всю зиму он занят был приготовлением возможных средств обороны. В ожидании помощи, обещанной графом Фландрским, он составил особый отборный полк так называемых архонтопулов из сыновей убитых воинов, наименованный так (архонтопулы — сыновья архонтов) ради почета и поощрения к военной доблести. Специально приготовленный к борьбе с печенегами и обученный самим, опытным в военной тактике, императором, этот двухтысячный отряд напоминал классически образованной дочери Алексея «священный отряд лаконцев»[57].
Едва наступила весна 1090 года, как печенежские шайки появились опять близ Хариуполя, где мы их уже раз видели. Здесь произошла схватка, кончившаяся несчастно для византийцев: архонтопулы должны были сделать первую пробу своей пригодности, и триста юношей положили свои головы перед печенежскими телегами, на которых стояли меткие стрелки зорких кочевников. Император Алексей оплакал лично дорогих ему юношей, проливая горькие слезы и произнося горячие причитания. Удачнее была схватка под Апром (Апри), который Алексей успел занять ранее печенегов. Печенежский отряд, вышедший на добычу, был разбит Татикием с франками: триста буйных голов печенежских попались в плен. Некоторым утешением и ободрением послужило также прибытие рыцарского отряда из далекого запада; граф Роберт блистательно исполнил свои обещания: пятьсот отборных всадников явились для борьбы с печенегами на помощь Алексею; закованные в железо, смелые и гордые рыцари Фландрии были самой страшной грозой для легких печенежских стрелков. Византийский император так нуждался в коннице и конях, что принял с великой благодарностью полтораста лошадей, присланных в подарок ему лично Робертом Фризом; сверх того купил у новоприбывших за деньги их запасных лошадей. К несчастью, Алексей не мог дать рыцарям того назначения, которое предполагалось для них первоначально.
Положение империи было тем более критическое, что турецкие орды (печенеги и сельджуки) наступали одновременно в Европе и Азии и что турки-сельджуки стремились подать через пролив руку своим единоплеменникам в Европе. Предприимчивый турецкий пират Чаха, когда-то приведенный малолетним пленником в византийскую столицу, воспитанный при дворе Никифора Вотаниата, облеченный титулом протонобилиссима, потом изменивший своему второму отечеству для первого родного, питал широкие замыслы, которые не доступны были до сих пор турецкой ограниченности сельджуков. Он понял, что самый жестокий удар Константинополю можно нанести с моря. Чаха завел при помощи смирнских греков собственный флот, завладел приморскими городами Фокеей и Клазоменами, островами Лесбосом и Хиосом[58] и завязал сношения с печенегами, которые были ему хорошо известны со времени пребывания в Константинополе. Какие-то печенеги, неизвестно откуда появляющиеся, сообщали ему сведения о движениях и намерениях византийских воевод. Необходимы были решительные меры и надежные силы, чтоб остановить дерзкого пирата. Алексей отправил в Малую Азию фландрских рыцарей, откуда, впрочем, несколько позже они снова были вызваны в Европу.
Себе император предоставил справиться с печенежским погромом. Тяжело прошло для него лето 1090 года. Вследствие лагерной жизни, душевных и физических тревог его мучила жестокая лихорадка. Ему приходилось быть свидетелем сцен потрясающих, унизительных для его достоинства и молча глотать оскорбления, подавлять и скрывать гнев в глубине души. Один значительный печенежский перебежчик на глазах императора заколол человека, который, благодаря своему знанию печенежского наречия, обличил варвара в обмане или даже явной измене. На царском коне, подарок которого должен был свидетельствовать об отсутствии гнева в душе Алексея, сметливый варвар ускакал потом к печенегам, понимая, что дерзкий поступок не пройдет ему даром и что только минуты отделяют его от неизбежной казни. Другой его товарищ несколько раз переходил с одной стороны на другую и, несмотря на то, не был подвергнут никакому наказанию. Так мало надежны были те элементы, которыми приходилось пользоваться византийскому императору.