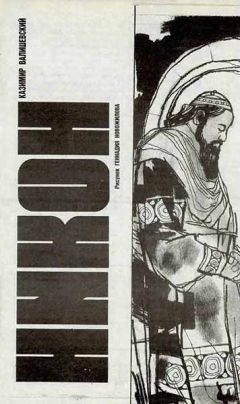На ком лежала вина?
Инструкция, составленная Бестужевым для будущей воспитательницы Екатерины, ясно обнаруживает его личное мнение относительно этого вопроса. В целях обеспечения престолонаследия, великую княгиню надлежало побуждать, чтобы «она с своим супругом со всеудобьвымышленным добрым и приветливым поступком, его нраву угождением, уступлением, любовью, приятностью и горячестию обходилась и генерально все то употребляла, чем бы сердце его императорского высочества совершенно к себе привлещи, каким бы образом с ним в постоянном добром согласии жите».
Екатерина в своих «Записках» категорически восстает против этого обвинения:
«Если бы великий князь желал быть любимым, то относительно меня это вовсе было не трудно; я от природы была наклонна и привычна к исполнению своих обязанностей…»
Ее наклонности, действительно, впоследствии ясно обнаружились, и сомневаться насчет их не приходится. Но и Петр со своей стороны, несмотря на странности своего характера и темперамента, как будто вовсе не обнаруживал в этом отношении отвращения, несогласного с обычным порядком вещей.
Тотчас по приезде в Россию, четырнадцати лет от роду, он влюбился во фрейлину Лопухину. Затем другая фрейлина, Карр, пленяет его сердце, и Екатерине приходится выслушивать новые признания в пылкой любви к этой особе. В 1756 г. он поссорился с Шафировой и со знаменитой Воронцовой, с которой впоследствии снова сошелся, и влюбился в Теплову. Кроме того, ему к ужину приводят певичку-немку. Затем он ухаживал за некоей Седрапарре, принцессой Курляндской и другими красавицами. Следовательно, загадка так и остается загадкой. Не следует ли искать ее разрешения в одном любопытном документе, изданном лишь недавно и подтверждающем предшествующие показания, почитавшиеся до сих пор сомнительными.
«Великий князь, – пишет Шампо в донесении, составленном для Версальского двора в 1758 г., – сам того не подозревая, был неспособен производить детей, вследствие препятствия, устраняемого у восточных народов посредством обрезания, но почитаемого им неизлечимым. Великая княгиня, не любившая его и не проникнутая еще сознанием необходимости иметь наследников, не была этим опечалена».
Кастера пишет со своей стороны:
«Он (великий князь) так стыдился несчастия, поразившего его, что у него не хватало даже решимости признаться в нем, и великая княгиня, принимавшая его ласки с отвращением и бывшая в то время такой же неопытной, как и он, не подумала ни утешать его, ни побудить искать средства, чтобы вернуть его в ее объятия».
Время оправдало Екатерину и ее защитников. Она имела детей, и имела их, или сделала вид, что имела, от мужа. Надо сознаться, что меры, придуманные канцлером, были тут ни при чем.
Как бы ни были велики способности и заслуги канцлера, он в данном случае не выказал особой мудрости. Может быть, он лучше умел управлять большой империей, чем жизнью юной супружеской четы. Выбор воспитательницы, призванной заменить собою мадемуазель Кардель, был неудачен. Эта честь выпала на долю Марии Семеновны Чоглоковой; ей было всего двадцать четыре года; она была красива, добродетельна, любила мужа и имела детей, что, вероятно, вызвало доверие к ней императрицы и ее канцлера. Надлежало, чтобы великокняжеская чета имела всегда перед глазами назидательный пример добродетельных и любящих супругов. Увы, пример этот не привел к добру! Чоглокова была добродетельна, но неопытна. Екатерина ее невзлюбила, и она не сумела ни заставить уважать свой авторитет, ни установить действительный надзор за великой княгиней. Не было ничего легче, как ее провести, и Екатерина с приближёнными стала с увлечением предаваться запрещенным удовольствиям и отыскивать поводы к ним. Муж Марии Семеновны находился в Вене, когда его жена была назначена на свой пост. Вернувшись в Петербург, он без памяти влюбился в одну из фрейлин великой княгини, Марию Кошелеву. Будучи влюблен, он вдвойне ослеп и старался затуманить глаза и своей жене. Вследствие этого у нее на глазах граф Кирилл Разумовский, брат фаворита императрицы, имел возможность ухаживать за великой княгиней, если и не слишком смело, то во всяком случае весьма упорно. Несколько месяцев спустя дела пошли еще хуже. Муж воспитательницы, изменив фрейлине, запылал страстью к той, за которой его жена обязана была следить. Великий князь, со своей стороны, ухаживал за всеми фрейлинами и, таким образом, сближение, которое должна была произвести Чоглокова, не произошло, и исполнение ее задачи встретило еще бóльшие затруднения.
Мысль обходиться с замужней женщиной, русской великой княгиней как с маленькой девочкой, была сама по себе несчастна, что и доказали последующие события. Екатерине было строго запрещено переписываться с кем бы то ни было, даже с отцом и матерью. Она должна была ограничиваться подписыванием писем, составляемых для нее в иностранной коллегии, т. е. в секретариате Бестужева. Это было равносильно приглашению Екатерины вести тайную переписку, столь часто практикуемую в то время. Она не преминула последовать этому приглашению. В это же самое время в Петербург приехал кавалер Мальтийского ордена итальянец Сакромозо.
В России давно уже не появлялось мальтийских кавалеров. Его очень чествовали; он был приглашен на все празднества и приемы, как официальные, так и интимные. Однажды, целуя руку великой княгини, он сунул ей записку: «От вашей матери», пробормотал он чуть слышно. Вместе с тем он сообщил ей, что музыкант великокняжеского оркестра, его соотечественник Ололио, возьмется передать ему ответ. Екатерина быстро спрятала записку в перчатку. Ей, вероятно, не впервые приходилось это делать. Сакромозо, впрочем, не обманул ее; письмо было действительно от ее матери. Написав ответ, она впервые стала прилежней следить за концертами своего мужа. Музыки она не любила. Указанное ей лицо, увидев, что она приближается, вполне естественно вытащило платок, оставив карман своего кафтана широко раскрытым. Екатерина бросила свою записку в этот импровизированный почтовый ящик, и с этой минуты переписка установилась и продолжалась во все время пребывания Сакромозо в Петербурге.
Вот каким образом случается, что сводятся к нулю и мудрость государственных мужей и мощь императрицы, когда они не считаются с другой мощью, именуемой молодостью, и с другой мудростью, предостерегающей от злоупотребления властью!
IIПриставив к Екатерине гувернантку, одновременно постарались отдалить от нее всех лиц, составлявших ее обычное общество и интимный кружок. Она приветствовала с радостью отъезд голштинца Брюммера, тем более что должность гофмаршала великокняжеского двора была замещена князем Репниным: «Это – любезнейший русский вельможа и умнейшая голова», писал о нем д’Альон. Сама Екатерина его очень ценила и питала к нему большое доверие. К несчастью, он недолго оставался на своем посту и был заменен хоть и влюбчивым; но нелюбезным Чоглоковым. Екатерина его терпеть не могла, и его любовь к ней не обезоружила ее. Вскоре поочередно исчезли все слуги великой княгини. Ее лишили даже любимой горничной-финляндки. Настала очередь и преданного Тимофея Евреинова, дававшего ей, однако, хорошие советы. Правда, он оказывал ей услуги, которые не всегда могли казаться таковыми в глазах других, например, он передал ей письмо от Андрея Чернышева, проезжавшего через Москву, по дороге в Сибирь. Сам Тимофей был сослан в Казань, где был полицмейстером, а затем дослужился до чина полковника. Так делались тогда дела в России!
Он был честен и, по-видимому, не обогатился на своем посту, так как через шестнадцать лет, вскоре после своего вступления на престол, Екатерина писала Олсуфьеву: «Я тебе поручаю выбрать место, или, одним словом сказать, хлеба дать Андрею Чернышеву, генерал-адъютанту бывшего императора, да отставному полковнику Тимофею Евреинову… Au nom de Dieu, défaites-moi de leur prière; ils ont souffert pour moi autre fois et je leur laisse battre le pavé, faute de savoir quoi en faire».
Бестужев направил свои удары, главным образом, против иностранцев, состоявших при особах великого князя или великой княгини или пользовавшихся их доверием. 29 апреля 1747 г. д’Альон возвещал об отбытии в Германию Бредаля, «обер-егермейстера великого князя, как герцога Голштинского», Дюлешинкера, его камергера, племянника Брюммера, Крамса, его камердинера, «состоявшего при его высочестве с малолетства», Штелина, «учителя истории», и Бастьена, его егеря. Из иностранцев оставались при дворе лишь фельдмаршал Миних, не имевший никакого влияния, и Лесток, «поддерживаемый своим ланцетом, некоторыми понятными опасениями и знанием бесчисленного множества анекдотов».
Вокруг Екатерины образовывалась все бíльшая пустота. В июне 1746 г. посланник Фридриха, друг и советник ее матери, Мардефельд, принужден был окончательно покинуть свой пост. Два года спустя на придворном балу она хотела подойти к Лестоку, но он уклонился от разговора с ней. «Не подходите ко мне», прошептал он: «Я в подозрении», и добавил еще раз: «Не подходите!» Он был красен, глаза его блуждали, Екатерине показалось, что он был пьян. Это происходило в пятницу 11 ноября 1748 г.