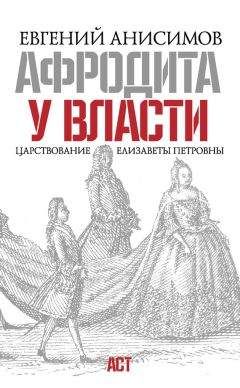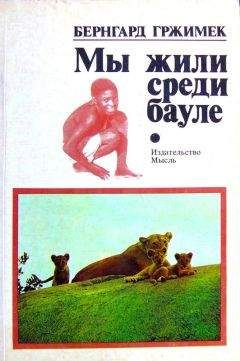Ознакомительная версия.
События, происходившие во дворце с 5 по 16 октября 1740 года, описывать довольно сложно, ибо они окружены не только завесой лжи, но и секретности. Нет сомнений, что Бирон сознательно ограничивал круг людей, причастных к реализации идеи его регентства. Многие государственные чиновники об этом или совсем не знали, или получали отрывочные сведения. Они могли, как иностранные дипломаты, видеть только интенсивное движение богатых карет по улицам столицы, да пробавляться слухами. К этому добавим, что с первого же дня болезни императрицы Бирон установил вокруг ее постели своеобразный карантин: почти неотлучно (часто вместе с женой) он находился в императорской опочивальне и следил за появлением посетителей у кровати больной. К ней он допускал на короткое время (и только в своем присутствии) Анну Леопольдовну и Елизавету Петровну, но не пустил принца Антона-Ульриха и многих других сановников. Собственно, новостью такое поведение фаворита в те времена не было. Не без оснований на следствии 1741 года его обвиняли в том, что «с самого вступления на Всероссийский престол до самого окончания жизни Ее величества его старательством никому, кто бы ни был, мимо его к Ее величеству никакого доступа не было» [67]. Но заметим, что Бирон не держал Анну в заточении, как Кощей Бессмертный. Так хотела сама императрица, о чем свидетельствует история жизни Анны Иоанновны [68]. Когда в 1741 году Бирона стали обвинять в том, что он со своей семьей «Ее величество обеспокаивали, многими неприличными и Ее величеству чувствительными внушениями утруждали, и словами, и поступками своими, почитай, денно и ночно так досаждали и опечаливали, что Ее величество только той минуты малой покой имела, когда он с фамилией своей из спальни выйдут, как сама Ее величество о том ближним своим комнатным служительницам неоднократно засвидетельствовать изволила» [69]. Бывший фаворит отвергал это обвинение, основанные на показаниях дворцовой прислуги, для которой временщик, учитывая его характер, был, вероятно, истинным тираном. Бирон же утверждал, что все было как раз наоборот: «…когда они (супруги Бироны — Е.А. ) отлучатся, в тот час опять к себе призывав, приказывала, в чем им Ее величеству ослушными быть было невозможно». По той же причине бедный временщик оставался годами неокромленным в протестантской кирхе, «понеже всякому известно, что ему от Е.и. в… никуды отлучиться было невозможно». Действительно, о липучей привязанности императрицы к фавориту, без которого она нигде и никогда не появлялась, известно из многих других источников. Поэтому, возможно, императрица и жаловалась прислуге на надоедливого Бирона, но при этом сама без него не могла прожить и часа.
Бирона, как и подобных ему «ночных императоров», понять можно: вчера было все благополучно, а нынче, со смертью императрицы, все могло разом рухнуть. К тому же у него был внутренний мотив, которым он оправдывал свое властолюбие и явно незаконные притязания на власть. Регентство представлялось самому Бирону как бы платой, как он говорил, за его «службу, в которой 22 года был», то есть с 1718 года, когда он поступил в камер-юнкеры к Анне Иоанновне, курляндской герцогине, и все эти годы находился неотлучно при ней [70]. По-человечески Бирона, так долго страдавшего от нестерпимой навязчивости своей малосимпатичной возлюбленной, понять можно, но цену за свои почти невыносимые страдания он заломил у России уж очень высокую.
Учитывая все это, можно понять, почему у сановников был только один выход — предложить регентство Бирону. Кто первым высказал мысль об этом, не совсем ясно. Впоследствии, когда Бирон рухнул с вершины власти и в манифесте императора Ивана Антоновича был назван узурпатором, вторым Годуновым, его бывшие сподвижники дружно отреклись от ставшей совсем не почетной роли инициаторов выдвижения Бирона в регенты. При расследовании Бирон показал на Миниха как на первейшего, «найревностнейшего» своего сторонника [71]. В своих записках Бирон повторяет, что именно Миних, выражая общее мнение сановников, заявил ему, что они «после многих размышлений и единственно в видах государственной пользы нашли способнейшим к управлению меня» [72]. Во время следствия Бирон также показал, что Миних, находившийся с ним «в особливом дружелюбии… с таким горячеством» просил его стать регентом, что если бы не эти просьбы и клятвы в верности, то «во веки б он, Бирон, правительства не принял» [73].
Конечно, в этом утверждении бывшего регента проглядывает обида на неверного фельдмаршала, который 9 ноября 1741 года коварно его сверг. И в других записях показаний Бирона видна эта обида и желание отомстить изменнику даже из-за решетки. Бирон показал, что Миних всегда был предателем, причем больше всего от него страдал, оказывается, Остерман, которого «…старался он 10 лет лишить чести, живота и имения» и которого пытался рассорить с ним, Бироном [74]. Ясно, что все эти инсинуации предназначались для глаз Остермана, который в этот момент был на коне, в отличие от Бирона, сидевшего в Шлиссельбургской крепости.
Следствие 1741 года, точнее «Экстракт о генерал-фельдмаршале фон Минихе», содержит эпизод, который нелегко придумать: «Как Ее императорское величество занемогла и ему, фельдмаршалу, от Бирона о том было объявлено, то о правительстве в совете и рассуждениях он первым предводителем к регентству его был, понеже, когда Ее величество наследником всероссийского престола Его императорского величества (Ивана Антоновича. — Е.А. ) определить и указ (5 октября. — Е.А. ) подписать соизволила, он, фельдмаршал, оставаясь в спальне Ея величества и стоя у дверей, держався за оную, велегласно говорил: “Милостивая императрица! Мы согласились, чтоб герцогу быть нашим регентом, мы просим о том подданнейше!”» [75]. Показания Бирона о Минихе как инициаторе выдвижения его в регенты и выводы следствия 1741 года подтверждает и заключение елизаветинских следователей 1742 года по допросам самого Миниха, уже угодившего в государственные преступники: «Нашлось, что он, Миних, главнейшую винность имеет в том, что Бирон в дело о правительстве вступил, ибо-де он первейший о том говорил и непрестанно просил и возбуждал» [76].
Бестужев также считал, что Миних «к тому регентству его, герцога, первым зачинщиком был и с начала его, герцога, о принятии регентства просил и других к тому приводил и склонял» [77]. Сам же Миних в своих мемуарах обходит молчанием интересующий нас вопрос о его роли в провозглашении Бирона регентом, что свидетельствует против него. Примечательно, что в ноябре — декабре 1740 года и в самом начале 1741 года, когда Миних находился в зените славы низвергателя регента, по-видимому, с его подачи была предпринята попытка «скорректировать» историю, «очистить» Миниха от вышесказанных обвинений. Для этого при допросе Бестужева 5 января 1741 года был задан вопрос, который начинался словами: «Сам ты слышал благое намерение генерала-фельдмаршала графа фон Миниха, что не иному кому правление государства во время малолетства Е.и.в. вручено быть может, как токмо родителем Е.и.в.?» Но эта попытка освободиться от обвинений оказалась крайне неуклюжей и противоречила всему, что было известно о роли Миниха в «затейке Бирона». Впрочем, вскоре сам фельдмаршал оказался в опале и выгодная Миниху тема ревностного защитника прав Брауншвейгской фамилии была, таким образом, закрыта.
Когда в 1742 году, во времена Елизаветы Петровны, начали об этом допрашивать самого Миниха, то он все валил на Бестужева: «Оный господин Бестужев сказал ему (Бирону. — Е.А. ): “Некому-де, кроме вас, быть регентом”» [78]. Однако ему зачитали выписку из дела 1741 года, которая свидетельствовала, что именно он, фельдмаршал, был первым инициатором регентства Бирона.
Впрочем, сын Миниха, оправдывая отца, указывает на кабинет-министра князя А.М. Черкасского, который якобы произнес первым слово о регентстве Бирона [79]. Эта версия подтверждается материалами следствия 1741 года по делу Черкасского. Бестужев показал, что когда 5 октября он вместе с Черкасским возвращался от Остермана в одной карете, Черкасский «в разговорах о правительстве наперед зачал говорить, что-де дальше некому, разве герцогу Курляндскому быть, понеже-де, он в русских делах искусен». По возвращении во дворец, в собрании вельмож, «он и стал представлять Бирона в регенты и обще с фельдмаршалом и с другими его о том просил» [80].
Теперь о Бестужеве, давшем эти показания. Без сомнений, сам он был непосредственно причастен к инициативе «истинных патриотов» (так назвал Бирон тех молодцов, которые уговорили его быть регентом), был особо деятелен и участвовал в подготовке многих необходимых документов для провозглашения Бирона регентом. Вообще, из всех сановников Анны Иоанновны Бестужев был самым близким соратником Бирона, его верным клиентом, послушной креатурой. С давних пор, еще в бытность свою послом в Копенгагене, Алексей Петрович Бестужев-Рюмин поддерживал с фаворитом переписку, а потом, по инициативе Бирона отозванный в Петербург, «многие секретные разговоры с ним имел» [81]. Истоки такой активности и преданности Бирону кроются в особенностях служебной судьбы Бестужева — безусловно талантливого и честолюбивого человека. Как известно, карьера этого истинного «птенца гнезда Петрова» началась блестяще, он показал себя хорошим дипломатом, был замечен и обласкан Петром Великим. Но затем движение наверх приостановилось, и 20 — 40-е годы XVIII века Бестужев «мыкал горе» в посольстве России в Копенгагене, что не отвечало его честолюбивым представлениям о самом себе. Известно, что еще в 1717 году, узнав о бегстве царевича Алексея в Австрию, Бестужев из Копенгагена написал добровольному изгнаннику письмо, в котором выражал преданность царевичу и предлагал свои услуги. Письмо это затерялось и чудом не попало в руки Петра Великого, иначе Бестужеву сидеть бы не в мягких креслах в Копенгагене, а в Москве, на колу посреди Болотной площади. В 1720 — 1730-х годах карьера Бестужева не развивалась дальше, пока он не установил связь с Бироном, благодаря чему бывший посол в Дании занял место казненного Волынского в Кабинете министров, совмещая там официальные обязанности министра с ролью клеврета фаворита. Неудивительно, что свое дальнейшее существование Бестужев связывал исключительно с Бироном. В следственном деле о Бестужеве было сказано, что Бирон, «надеясь на его к себе из давних лет верность, своим фаворитом имел и когда он еще был в чужих краях, онаго в свои дела употреблял». Бестужев был всегда «весьма откровенным шпионом» [82] герцога. И сколько бы потом, на следствии 1741 года, оба ни отрицали своих близких отношений, существование их несомненно: Бестужев с Бироном «тайные советы о произведении всяких замыслов, также о повреждении других… людей имел» [83].
Ознакомительная версия.