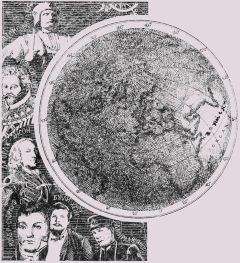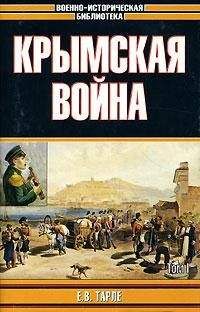Много толковали о славянской конфедерации под главенством царя. «Много было предложений, представленных и батюшке и наследнику (Александру Николаевичу) через Ростовцева, а Ростовцеву через меня», — вспоминает графиня[561].
Замечу к слову, что на Льва Толстого эта придворная агитация Антонины Дмитриевны производила отталкивающее впечатление, и он посвятил графине две беглые строки в «Декабристах», где говорит о Крымской войне: «Это было то время, когда Россия в лице дальновидных девственниц-политиков оплакивала разрушение мечтаний о молебне в Софийском соборе»… Погодин продолжал писать в Москве свои письма без адреса, в рукописях расходившиеся по России. Эти письма впоследствии появились и в печати, уже через много лет после смерти Николая, а в 1874 г. вышли отдельной книжкой. Они, по-своему, очень любопытны. Основное содержание позднейших писем — это, с одной стороны, решительная и очень отрицательная критика всего курса царской внешней политики, начиная с Павла и вплоть до Крымской войны, политики реакционной интервенции, поддержки тронов и алтарей, без малейшего смысла и с очень большим ущербом для государственных интересов России. А с другой стороны — «положительная» часть: одушевленные призывы панславистского характера (у Погодина несравненно более искренние, чем у Блудовой), приглашение разрушить Турцию, а заодно уж и Австрию и «освободить» всех тамошних славян. Есть страницы в этих писаниях, напоминающие исступленный бред. Славяне как турецкие, так и австрийские спят и видят, как бы им очутиться под благодетельным скипетром Николая. Так, все «восемьдесят миллионов» славян (по статистике Погодина) и предаются этим сладостным мечтам. «Стали мы на Дунае и стояли долго, переходить не решались; но вот толкнул наконец кто-то в шею, и волей-неволей перешли мы на другую сторону… А на другой стороне, смотрите, бежит навстречу народ, с хлебом и солью, крестами и святой водой. Вот ударил неслыханный четыреста лет колокол, раздался первый благовест, вознесся первый крест над православною церковью. Что же? Вы допустите, чтобы крест был снят?.. Нет, это не может быть, и этого не будет! Следовательно, Болгария свободна»[562] и т. д. Тут все без исключения — решительный вздор и бредовая фантазия. И в Болгарии давным-давно православная церковь была совершенно свободна, и на Дунае никакие миллионы славян не бежали с хоругвями, и никто в царские верноподданные попасть не мечтал, хотя освободиться от турок, разумеется, желали твердо, и, например, болгарское население в Варне смотрело на французов и англичан, стоявших там лагерем от мая до августа 1854 г., как на врагов, приехавших помогать султану, а на русскую армию — как на силу, которая может поспособствовать превращению Болгарии в самостоятельное государство.
«Мы перешли через Дунай, слава богу, и уже посылаются болгарам колокола для церквей», — ликуя сообщал Константин Аксаков своему брату Ивану[563]. И колокола для болгарских церквей (где невозбранно и до тех пор трезвонили собственные болгарские колокола) в качестве эмблемы освобождения и Николай в качестве освободителя народов — все это возбуждало тогда в этом наиболее чистом морально и наименее снабженном интеллектуальными ресурсами из всех славянофилов один беспримерный восторг. Но на самом деле не в колоколах была тут сила.
По существу план Николая — не возбуждать христианские провинции Турции к восстанию, а только «пользоваться» этим восстанием — оказывался совсем невозможным. И сам царь, конечно, это понимал и пошел дальше первоначальных намерений. Русские агенты были посланы в Сербию, в Черногорию, в Болгарию. «Часто я говорю себе, что присутствие этих агентов скорее вредно нам, чем полезно, — пишет Мейендорф 1 апреля 1854 г. в Петербург, — и вот почему. Мы объявили, что не хотим подстрекать эти народности против турок, но мы оставили за собой возможность воспользоваться их самопроизвольным подъемом (leur essor spontané). Но ведь там, где есть один из наших агентов, — этот самопроизвольный подъем невозможен: с этим агентом советуются, у него спрашивают, следует ли восстать? Если он ответит: да, — это значит, что он дает толчок движению, если он скажет: нет, — это будет значить, что он подавил самопроизвольный подъем. Я кончаю эти размышления, повторяя, что поддержка славянского населения не окажет нам столько пользы, сколько война с Австрией прочит нам зла…»[564]
После разрыва дипломатических отношений между Россией и западными державами и питая уже вполне твердую уверенность в близком объявлении войны России со стороны Англии и Франции, австрийский министр Буоль усвоил себе почти угрожающий тон в разговорах с Мейендорфом. Он определенно жаловался на пропаганду, которую ведут русские агенты в славянских землях.
Изо всех сил в течение всей весны 1854 г. русский посол Мейендорф не переставал доказывать в Вене, что Николай вовсе не стремится поднять славян против Турции. А ему в ответ повторяли, что не могут этому опровержению поверить, и приводили слова, сказанные Орловым Францу-Иосифу, и, что еще важнее, собственные слова Николая (из письма, привезенного Орловым австрийскому императору): царь прямо писал, что он не позволит опять вернуть под турецкое иго христианские народы, которые восстанут и присоединятся к нам. А граф Орлов еще уточнял, что восстание этих христианских народов необходимо произойдет, и последствием восстания будет их независимость[565].
Еще более усилилось раздражение Франца-Иосифа и Буоля, когда лорд Эбердин опубликовал текст знаменитых разговоров Николая с Сеймуром, происходивших в январе и феврале 1853 г. Публикация последовала в конце марта 1854 г.
В русских газетах было напечатано возражение правительства на эти парламентские разоблачения, но это возражение не показалось убедительным никому из европейских дипломатов.
Русское опровержение называет обвинение царя в захватнических намерениях «несправедливым, чтобы не сказать бессовестным». Сеймур не так понял государя: «…его величество никогда не думал помышлять о каком-либо разделе, и тем менее о разделе, составленном предварительно. Государь император обращал внимание на будущее, а не на настоящее, имел в виду одни случайности… Не довольно того, что с умыслом превратили и исказили свойства и побуждения его объяснений: старались еще найти в них оружие против его величества, усиливаясь уверить другие правительства, что государь император в сем случае обратился особенно к Англии по той причине, что ставил ни во что их мнения и выгоды». Это опровержение не имело никакого успеха, ему не поверили. Больше всего раздражена была Австрия именно таким полным пренебрежением к ее силам и ее интересам, какое обнаружил царь в разговорах с Сеймуром. «Злоупотребление великодушной доверчивостью, которой оценить не умели» (так характеризует Нессельроде опубликование бесед Николая с Сеймуром), принесло враждебной России коалиции большую пользу. Оно ускорило ту дипломатическую эволюцию, которую уже и до того определенно совершало австрийское правительство, все более и более сближаясь с Англией и Францией.
Очень ловко и издавна обдуманный удар, нанесенный Николаю Эбердином, опубликовавшим внезапно эти старые донесения Гамильтона Сеймура, причинил серьезный вред всем усилиям Мейендорфа удержать Австрию от враждебного дипломатического выступления.
8 (20) апреля 1854 г. в Берлине был подписан оборонительный и наступательный военный союз между Австрией и Пруссией. Иначе и нельзя назвать это «соглашение», и так его дипломаты и назвали с самого начала. Уже 8 мая в Вене состоялось под председательством императора Франца-Иосифа совещание, в котором участвовали Буоль, генерал Гесс и министр финансов. На совещании было решено послать в Галицию и Буковину два армейских корпуса. «Политический вопрос разрешен, остается военное исполнение», — сказал Франц-Иосиф.
А спустя несколько дней в венской «Официальной газете» был опубликован приказ императора о призыве под знамена 95 тысяч человек и об отправке войск к северо-восточным и юго-восточным границам Австрийской империи[566]. Затем, уже в первой половине июня, быстро следовали события, прямо ведшие к ликвидации Дунайской кампании. Австрия заключила с Турцией две конвенции: согласно одной, австрийцы получали право временно занять Албанию, Черногорию и Боснию; согласно другой, Турция приглашала Австрию занять Дунайские княжества.
Наихудшие опасения Паскевича сбывались.
В Петербурге заключение этой конвенции между Австрией и Пруссией было принято как тяжкое дипломатическое поражение. Но, кроме какого-то беспомощного лепета, царь от своего канцлера по этому поводу ничего не услышал.