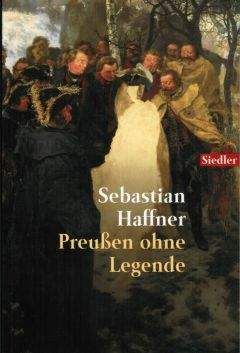Вплоть до сегодняшнего дня в международном дипломатическом языке «Рапалло» — это ключевое слово с четким значением. Это краткая зашифрованная формула, означающая два понятия: во-первых, что коммунистическая Россия и антикоммунистическая Германия под давлением обстоятельств объединились против Запада и смогли действовать совместно; и, во-вторых, что такое могло произойти очень неожиданно, буквально за ночь. Второе еще более чем первое сделало слово «Рапалло» страшилкой для жителей Запада, от шокирующего действия которого еще и сегодня бросает в дрожь.
В самом деле, едва ли во всей истории дипломатии найдется другой важный межгосударственный договор, который был бы осуществлен столь молниеносно: переговоры начались с телефонного звонка после полуночи, в первые часы пасхального воскресенья, а после полудня этого же самого пасхального воскресенья под готовым договором уже стояли подписи германского и русского министров иностранных дел. Но даже если договор в Рапалло в конце концов был дипломатическими стремительными родами, то зародыш, из которого он произошел, был оплодотворен задолго до этого, почти за три года до этих событий. А именно — в высочайшей степени невероятном месте: в камере берлинской следственной тюрьмы Моабит.
Туда 12-го февраля 1919 года был доставлен Карл Радек. Радек был ведущим членом русской большевистской партии, вообще же польским евреем и вместе с тем он считал себя своего рода немцем[4] — такие вот чудеса были в то время. Это был один из самых умных и язвительных умов своего времени.
В то время он был членом делегации видных большевистских политиков, которых Ленин в декабре 1918 года послал на всегерманский конгресс рабочих и солдатских советов. Делегацию не пустили в Германию — правительство Эберта не желало иметь дела с русскими большевиками. Остальные члены делегации, неприятно удивленные и обиженные, вернулись назад. Но Радек раздобыл шинель австрийского солдата и пробрался в Берлин в качестве возвращающегося домой военнопленного. (Он говорил на австрийском немецком столь же безукоризненно, как и на польском и русском языках, кроме того, еще на трех или четырех других языках с ошибками, но бегло). В Берлине он, правда, принял участие не в конгрессе советов, а в учредительном съезде КПГ, пережил январские бои, победу контрреволюции и убийство Либкнехта и Розы Люксембург, еще пару недель, меняя адреса, поддерживал контакты со своими немецкими друзьями по партии и в конце концов был схвачен во время одной из многих тогдашних облав на коммунистов.
То, что он пережил свой арест, было чистой удачей: в то время были скоры на расправу, расстреливая видных красных «при побеге». Следующие месяцы были тяжелыми: строгое одиночное заключение, беспрерывные допросы. Но летом 1919 года — после заключения Версальского мира — условия заключения вдруг улучшились. Он был переведен в привилегированную камеру и получил разрешение на неограниченные визиты посетителей, и посетители всегда были важными персонами. Особенно им интересовался рейхсвер. Его камера в Моабите стала известна как «политический салон Радека».
В октябре его выпустили — на квартиру полковника фон Райбница, который во время войны был офицером разведки Людендорффа, а теперь принадлежал к штабу нового начальника рейхсвера Зеекта. Там дискуссии продолжались. В декабре Радек наконец вернулся в Москву — посвященный во многие вещи и носитель тайн и идей первого ранга. Что он привез с собой в невидимом багаже за два года до Рапалло — это мысли о заключении союза антибольшевистской Германии с большевистской Россией: целевого союза против Запада и против Версальского договора.
В этот полный приключений год в Германии Радек понял, что немецкая революция потерпела неудачу. Но он также понял, что обновление дьявольского соглашения между немецкими правыми и русскими левыми не должно простаивать: влиятельные люди в Берлине были готовы снова заключить союз с русскими большевиками, и в этот раз уже вовсе не в качестве военной меры для завоевания России — к этому они теперь вовсе не имели интереса — а совершенно искренне как равные государства, на основе взаимных интересов, общих врагов и при взаимном уважении.
Чего не добилась немецкая революция, достиг Версальский договор: поворота в сторону России и ощущения подлинной общности интересов Германии и России. Чувство это не было еще всеобщим — до этого было еще очень далеко, — и оно находилось еще в борьбе с глубоко укоренившимся, инстинктивным, почти непреодолимым антибольшевизмом. Но оно уже было. Это был зародыш, способный развиваться. Из этого зародыша должен был вырасти договор в Рапалло.
Те, кто не пережил тех времен, едва ли могут составить себе представление об ужасном, неослабевающем шоковом воздействии, который произвел на Германию Версальский договор. Версаль был для Германии тем, чем для России был Брест-Литовск: одновременно тяжелое ранение и смертельное оскорбление. Германия чувствовала себя в одно и то же время так, как будто её изувечили и дали пощечину. Она дрожала от бессильной ярости и позора. Ненависть к Западу была тогда сильнейшим политическим чувством в Германии. Немногие политики — тоже бывшие патриотами — которые подавили свой гнев и проводили политику исполнения Версальского договора, буквально играли со смертью. Двое из них — Эрцбергер и Ратенау — и заплатили своими жизнями.
Версаль был невыносим. Но где найти средство от невыносимого? Германия была побеждена, обезоружена, бессильна; одиночное сопротивление было безрассудным. Требовались союзники. И единственным возможным союзником был другой многое проигравший в войне: Россия — большевистская Россия. Союз Германии с большевистской Россией — это было единственное, чего еще боялась Антанта. Это было единственное, чем можно было отплатить за унижение Версаля.
Но не был ли такой союз противоестественным, возмутительным, невозможным? Не более, чем события в 1917 году, когда России подбросили большевизм, как вошь в меха, чтобы тем самым внести в неё болезнь, от которой она зачахнет. Теперь же невероятным образом большевики стали правильным, нормально функционирующим русским правительством, они добились успеха в создании из ничего армии, выиграли ужасную гражданскую войну: следовало теперь считаться с ними.
Если желать союза с Россией, то следовало быть готовым садиться за один стол с цареубийцами (а те должны быть готовы садиться за один стол с убийцами Либкнехта и Розы Люксембург). Следует вообразить себе, что в годы 1919, 1920 и 1921 Германия и Россия все еще как бы в растерянности смотрели друг на друга, они так сказать обе не верили своим глазам. Русские просто не могли поверить, что революция у них получилась, а у немцев не получилась; это нарушало все марксистские знания, это было против всех предполагаемых исторических законов, это было так, как если бы вдруг луна всходила утром, а солнце вечером, это не могло быть правдой. Немцы в свою очередь не могли поверить, что большевики, эти невозможные политические мечтатели, эти оторванные от мира сего утописты и фанатики, в действительности выдержали испытание и достигли успеха, что они стали настоящим правительством, которое хотело управлять и могло это делать — что они теперь были Россией. Подобного еще никогда не было, так что это должно было быть обманом зрения. И все же, снова и снова протирая глаза — это было, это оставалось, так что следовало, качая головой, примириться с этим и к этому приспособиться.
Первыми немцами, которые это сделали с определенным вынужденным уважением, были военные. Им импонировала победа большевиков в гражданской войне.
«Чисто с военной точки зрения», — писал генерал Хоффманн, известный по «удару кулаком в Брест-Литовске» — «поразительно, что вновь созданным красным войскам удалось победить в то время еще сильные вооруженные силы белых генералов и полностью их разгромить». А полковник Бауэр, посещавший Радека осенью 1919 года, даже разразился в адрес Троцкого в некотором роде восхищенным «Donnerwetter!»[5]. «Прирожденный военный организатор и вождь», — так писал он. «Как он из ничего в самый разгар тяжелых сражений создал новую армию, а затем её организовал и выучил — это выглядит абсолютно по наполеоновски».
Военные были затем также первыми, кто совершенно решительно и хладнокровно переключился на Россию. Они могли это делать, не дожидаясь политиков: рейхсвер был государством в государстве и проводил свою собственную политику. Его первейшей и важнейшей целью было обойти суровые условия разоружения Версальского договора. Это могло произойти только в России, в сотрудничестве с русским правительством, и если это русское правительство было теперь большевистским правительством, то ничего не поделаешь — следовало начинать совместную работу именно с большевиками. Она была начата — уже совсем рано. Первые связующие нити между рейхсвером и Красной Армии были свиты уже в камере Радека.